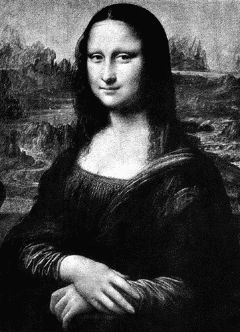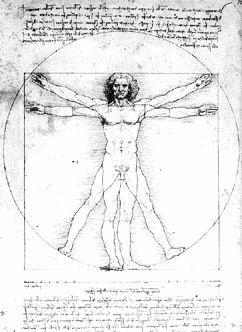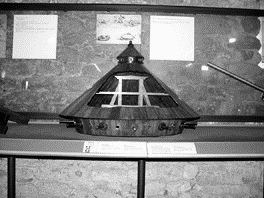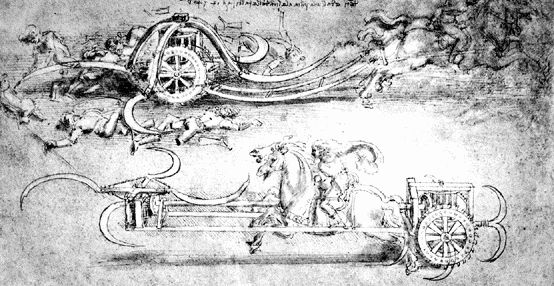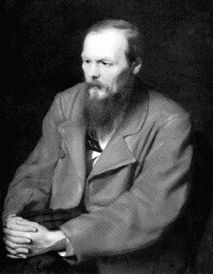|
||||
|
|
Глава 2. «Служенье муз не терпит суеты»Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Тогда почему говорят, что талантам надо помогать (бездарности пробьются сами)? Действительно ли человек, отмеченный искрой Божьей, наделенный талантом к какому-то роду деятельности, без труда пишущий гениальные картины, сочиняющий великолепные стихи или поражающую воображение, вдохновенную музыку, и впрямь может направить свой дар и на решение каких-либо повседневных, сиюминутных проблем? Или же дар его сугубо узконаправлен, посвящен какой-нибудь из муз (реже – нескольким), поглощает человека, им наделенного, полностью, заставляет следовать себе безоглядно и беззаветно, направляя все его духовные и физические силы на свое воплощение, не оставляя ничего на остальные сферы жизни? А возможно, талант в какой-то области и вовсе ничего не значит, когда дело доходит до задач, с применением человеческого дара никак не связанных, и гениальный поэт никогда не сможет, сколь бы этому ни учился, связать шерстяных носков, не то что макраме, а гениальный резчик по кости или дереву, создающий своим резцом подлинные шедевры, не наиграет даже элементарный «Чижик-пыжик», как бы долго ни терзал гитару. И что вообще есть талант? Можно ли назвать талантливым человеком финансиста, который подделывает бухгалтерскую документацию так ловко, что аудиторы и инспекторы налоговых служб только руками разводят, не в силах найти ни малейшего несоответствия? Или настолько ловко уклоняющегося от уплаты налогов и столь искусно прячущего концы в воду, что у сотрудников правоохранительных органов к нему вообще вопросов не возникает? Да и, в конце концов, можно ли назвать талантливым, например, знаменитого советского афериста Беню Крига, который во времена НЭПа умудрился продать заезжему миллионеру здание одесского ГУБ ЧК? Да и возможно ли вообще, чтобы человек, питаемый талантом, поглощенный созиданием, вообще обращал внимание на какие-то там житейские проблемы и неурядицы? Как известно, талантливый человек талантлив во всем. Проблема не в наличии или отсутствии таланта, а в тех акцентах, которые человек ставит в своей жизни. Служенье муз не терпит суеты, а значит, не терпит и распыления сил. Талант не обязательно должен быть беден, но истинному таланту часто не хватает времени заняться своими финансовыми делами. И он разоряется, становится банкротом. О таких людях эта глава. Гений во всем, кроме экономики. Леонардо да ВинчиМногие согласятся, что Леонардо да Винчи – один из немногих живших на нашей планете универсальных гениев. Он был гением во многих отраслях: проявил себя в живописи, архитектуре, математике, инженерном деле, астрономии и т. д. Однако осталась одна-единственная отрасль, продолжавшая оставаться ему неподвластной, – экономика, умение вести свои дела, богатеть. А может быть, такой универсальный гений, как Леонардо, просто не захотел тратить на это время и силы. Но как бы то ни было, не пожелав разобраться в своих делах, он лишился доходов и под старость был вынужден покинуть родную Италию и переехать в чуждую ему Францию, где из уважения к его талантам ему предложили кров и пищу. Если бы не это, как знать, возможно, Леонардо покинул бы этот мир еще раньше, не успев сделать того, что успел благодаря помощи французского короля.
Один из величайших гениев Италии появился на свет 15 апреля 1452 года в небольшом городке Винчи, лежащем к западу от Флоренции. Его матерью была простая крестьянка (история даже сохранила ее имя – Катерина), которая родила его от флорентийского нотариуса, приехавшего в городок по делам. Нотариус не мог жениться на Катерине, потому что во Флоренции у него уже была семья, но и от сына не отказался. Он дал ему имя – Леонардо, официально признал его своим ребенком и принимал участие в его воспитании. Так, благодаря отцу мальчик не вырос невежественным крестьянином, а научился читать, писать и считать и даже был вписан в кадастр флорентийских граждан, то есть стал гражданином Флоренции. Таким образом он получил возможность когда-нибудь попасть в высшее общество. Но для этого требовалось долго и упорно трудиться в какой-нибудь из наиболее перспективных тогда отраслей. Юриспруденция Леонардо не привлекала – он считал ее лишь способом обманывать других и наживаться за чужой счет. Как и любой молодой человек, он хотел вершить великие дела, которые прославят его в веках, мечтал стать богатым и знаменитым. В ту пору можно было легко прославиться, занимаясь искусством: живописцы, скульпторы, архитекторы и ювелиры во Флоренции весьма ценились. Он попробовал рисовать и быстро понял, что у него есть талант. Так же быстро понимали это и все, кому он показывал свои рисунки. Отец, взглянув на его работы, тоже признал, что у сына есть способности, и отдал его в мастерскую художника Андреа дель Верроккьо. В наши дни мало кто знает об этом человеке. Как правило, его имя упоминается только в связи с тем, что ему выпала честь стать учителем гения. Однако в свое время он был довольно известным во Флоренции живописцем, и многие богатые родители мечтали отдать ему в обучение своих сыновей. Верроккьо был очень разборчив и выбирал далеко не всех. Он не желал возиться с мальчишками, которые не умели рисовать, и брал только по-настоящему талантливых детей. Оптимальным возрастом для поступления в мастерскую считался 5– или 6-летний ребенок. В первый год мальчиков близко не подпускали к картинам: они только подметали пол в мастерской, подавали еду, убирали со стола и, если повезет, лишь издалека могли увидеть, как мастер работает над очередным шедевром. Затем им разрешали чистить палитру и растирать краски. Потом мальчиков начинали учить рисовать, а самым талантливым Верроккьо разрешал работать над заказами: писать фон, деревья, иногда одежду или животных на том или ином полотне. Это была очень интересная и увлекательная работа, к тому же гораздо легче, чем, например, ремесло каменщика, поэтому мальчишки изо всех сил старались быть достойными оказанной им чести. Однако с Леонардо все получилось не так. Он попал в мастерскую Верроккьо 15-летним – в этом возрасте мальчики, как правило, уже заканчивали обучение, становились самостоятельными живописцами и открывали собственные мастерские. Разумеется, Леонардо отказался мести пол и смешивать краски: он желал создавать грандиозные полотна! Верроккьо долго не хотел принимать его в мастерскую – зачем ему такой строптивый ученик, не признающий авторитетов и готовый его самого, известного мастера, учить рисовать! Что он будет с ним делать? Но увидев его работы, Андреа задумался. Леонардо явно недоставало знаний, он не имел представления о многих элементарных вещах, но линия у него была верна и тверда. В его набросках чувствовалась рука талантливого художника. Это был алмаз, который требовал лишь небольшой огранки, чтобы стать великолепным, сверкающим бриллиантом. Всего лишь год обучения, как мечтал мастер, и Леонардо с легкостью затмил бы всех известных в то время художников, в том числе и самого Верроккьо. Однако, оставаясь его учеником (контракт составлялся на несколько лет, и сумма за обучение вносилась заранее), Леонардо вынужден будет выполнять заказы Верроккьо, что принесет ему славу и богатство. Но, несмотря на явную выгоду, мастер все еще сомневался, брать ли Леонардо в свою мастерскую. Вопрос уладили только после того, как отец юноши согласился составить контракт на несколько лет и заплатить значительную сумму за обучение. Столько Верроккьо не получал еще ни за кого из своих учеников. Художник и нотариус составили контракт, скрепили его подписями, после чего отец Леонардо передал мастеру деньги. В контракт был включен пункт, согласно которому деньги оставались у Верроккьо, даже если Леонардо захочет прервать обучение и уйти. Таким образом, художник ничего не терял, согласившись взять в мастерскую такого взрослого и строптивого ученика. Леонардо оставался в мастерской Верроккьо в течение 5 лет: с 1467 по 1472 год. Как и других учеников, мастер обучил его всему, что знал сам, причем не только рисунку и живописи, но и скульптуре, архитектуре и строительному делу. Леонардо быстро во всем разобрался и вскоре работал над заказами уже наравне со своим учителем. Заказов становилось все больше и больше, деньги потекли рекой, но все они оставались у Верроккьо. Вся слава тоже доставалась ему. Об участии Леонардо в создании картин никто не подозревал, и это несмотря на то, что они явно были намного талантливее работ своего учителя. Однако он ничего не мог поделать: по контракту да Винчи ни на что не мог претендовать, и это все сильнее злило и раздражало. Ему было уже 20 лет, другие в его годы уже открывали собственные мастерские! А он был вынужден как раб трудиться на Верроккьо. Последней каплей стала совместная работа над картиной «Крещение Христа». Учитель сам с величайшим старанием выписал фигуры Христа и Иоанна Крестителя. Своему ученику он доверил лишь изобразить фигуры двух ангелов в левой части полотна. Леонардо возмущало в этой работе все: и сюжет, и композиция, и колорит. Он бы написал ее намного лучше! Ангелы, как он считал, были здесь совершенно ни к чему: в Евангелии ничего не сказано о том, что в момент крещения Иисуса рядом с ним сидели два ангела. Уж лучше он нарисует простых людей, которые там присутствовали! Но Андреа был неумолим: или Леонардо согласится писать ангелов, или вообще не будет принимать участие в создании этого произведения! А если строптивый да Винчи будет упорствовать, не подчинится воле учителя, его прогонят из мастерской. А уж затем Андреа позаботится, чтобы Леонардо никогда не приняли в гильдию художников, и тогда ему ничего не останется, как с позором вернуться к своему отцу и признаться, что он зря выложил деньги, что Леонардо – неблагодарный сын и за 5 лет не обучился профессии художника. Делать нечего, пришлось Леонардо писать фигуры ангелов. Он вложил в них всю душу и постарался написать так хорошо, как только смог: он хотел показать, что превзошел своего учителя в мастерстве. И действительно, ангелы сильно выделялись на полотне: сразу было видно, что писал их другой, более талантливый человек. К счастью для Леонардо, очень скоро его мучения закончились: срок контракта истек, и он получил право покинуть мастерскую. В том же 1472 году его приняли в гильдию художников, что должно было обеспечить ему будущие заказы. И действительно, вскоре он взялся за свою первую работу: проект канала на реке Арно.
В том же году Леонардо да Винчи стал членом цеха Святого Луки и начал свою карьеру живописца. Его первыми произведениями называют «Rotella di fico», «Медуза», «Нептун», картон «Адам и Ева» и некоторые другие. Однако ни славы, ни денег эти работы ему не приносили. Покинув мастерскую своего учителя, Леонардо был вынужден найти себе квартиру, самостоятельно платить за пропитание, покупать одежду. Он начал подумывать о том, не взять ли себе помощника, так как работа над заказами отнимала все время, а ведь приходилось еще самостоятельно готовить краски и чистить палитру... В общем, жизнь без Верроккьо оказалась не такой уж и легкой, как ему представлялось вначале. Он был уверен в своей гениальности, но не успел еще завоевать популярность, и заказчики платили ему гораздо меньше, чем его учителю, а объем работ значительно превышал тот, что ему приходилось выполнять в мастерской. Он уже потерял счет ангелам, которых изображал на картинах, но при этом долги его, несмотря на упорную работу, продолжали расти. К тому же в апреле 1476 года случилась новая неприятность: против него было выдвинуто анонимное обвинение «Peccato di Sodomia» – в грехе содомии. В ту пору в Италии такие отношения были строго запрещены и тяжко карались: ни о какой карьере живописца можно было не мечтать, никто не согласился бы отдать своего ребенка в мастерскую да Винчи. Справедливости ради стоит отметить, что это обвинение скорее всего было правдивым. Известно, что Леонардо да Винчи никогда не был женат и, по всей видимости, вообще не интересовался женщинами. Его современники, описывая жизнь Леонардо, неоднократно двусмысленно сообщали, что он всегда окружен юношами, которые восхищаются его талантом и стремятся во всем ему подражать. Его нередко видели в компании то одного, то другого молодого человека. К тому же одним обвинением дело не ограничилось. В июне того же года последовал второй анонимный донос аналогичного содержания. Леонардо вызвали на дознание, и он довольно быстро доказал свою невиновность. Как ему это удалось, неизвестно, возможно, важную роль в этом деле сыграло золото. Как бы то ни было, обвинение сняли. Но все же по городу поползли слухи, и Леонардо да Винчи всерьез подумывал о том, не уехать ли ему из Флоренции и не начать ли новую жизнь в другом крупном городе. Но прежде чем уехать, следовало расплатиться с долгами. Вскоре счастье ему улыбнулось: Леонардо получил крупный инженерный заказ от Лоренцо Медичи и смог немного поправить свои дела. 1 января 1478 года флорентийская синьория поручила Леонардо да Винчи написать картину для капеллы Святого Бернарда во дворце Синьории, который он также исполнил. Наконец-то он мог рассчитаться со всеми кредиторами и уехать из Флоренции. Однако ни в одном другом городе о нем ничего не знали, поэтому получить заказы там ему было бы намного сложнее. Здесь же, во Флоренции, он уже завоевал популярность как живописец, написал ряд произведений, среди которых «Святой Иероним», «Мадонна Литта» «Мадонна с цветком» и др. Правда, часть из них все еще была не закончена, но он и не стремился к этому. До конца разработав замысел, он терял к нему интерес, и воплощение уже не интересовало его. Для него было достаточно, что образ будущей картины жил в его душе. Леонардо быстро увлекался чем-либо, будь то картина, план канала, скульптура, роспись, театральная декорация или научный труд, но так же быстро остывал, терял интерес к занятию и с таким же жаром начинал что-нибудь другое. Поэтому он не воплотил практически ничего из своих «инженерных сооружений будущего»: в большинстве своем они так и остались эскизами. По этой же причине Леонардо да Винчи так и не удалось сколотить состояние: получив заказ, например, на создание картины, он увлеченно начинал работу, но затем, когда оставалось провести всего несколько сеансов, резко охладевал к живописи и обращался к математике. Заказчик приходил к нему раз, другой, но Леонардо отказывался его принимать, а краска тем временем засыхала и дерево покрывалось пылью. В результате, уступая требованиям заказчика, который угрожал подать на него в суд, художник отдавал ему картину и получал часть обещанных денег, которых едва хватало на то, чтобы заплатить за квартиру и пропитание. Отец, видя, что учение пошло Леонардо впрок и он стал выдающимся живописцем, решил помочь ему. Монахи флорентийского монастыря Сан-Донато-а-Скопето обратились к нему с просьбой порекомендовать талантливого мастера, которому они планировали поручить написать картину для украшения собора. Нотариус, разумеется, заявил, что самый достойный мастер – Леонардо из города Винчи, который рисует так хорошо, как будто его рукой водит сам Бог. Так Леонардо получил заказ на создание картины под названием «Поклонение волхвов». На его выполнение художнику было отведено два года. Понимая возложенную на него ответственность и не желая подводить отца, Леонардо старательно взялся за работу. Он подготовил множество эскизов, разработал сюжет и композицию будущей картины. Монахи остались довольны эскизами, но сам Леонардо считал, что композиции не хватает единства и целостности. Он снова и снова переделывал эскиз, который, кстати сказать, был достаточно хорош и достоин даже такого талантливого живописца, как да Винчи. Естественно, дело кончилось тем, что заказ он не выполнил. Его отстранили и передали работу над картиной Филиппино Липпи. Что касается Леонардо, то он оказался в очень трудном положении: не закончил произведения, подвел отца, не получил гонорара... Вряд ли он когда-нибудь еще сможет получить заказ в этом городе. Нужно было как можно скорее уезжать отсюда. Леонардо написал письмо правителю Милана Лодовико Сфорца, в котором представился как инженер, военный эксперт, а также художник и просил разрешения переехать в его город. Вскоре он получил это разрешение и уехал из Флоренции.
В Милане Леонардо прожил до 1499 года и покинул этот город только по необходимости, после того как Сфорца был изгнан из него французами. За это время он проявил себя действительно как инженер и военный эксперт, а кроме того, как архитектор, анатом, изобретатель механизмов, создатель декораций для придворных представлений, сочинитель загадок, ребусов и басен для развлечения двора, музыкант и теоретик живописи. Целый год он занимался осушением Ламбардской равнины. Материальное положение Леонардо да Винчи наконец-то можно было назвать стабильным: получал он за свои труды немало. Но и расходы его были велики и возрастали с каждым днем: он поселился в роскошном доме, обставил его по собственному вкусу, нанял слуг. Все это требовало средств. По совместительству исполняя должность живописца, Леонардо написал несколько картин (алтарный образ «Мадонна в скалах», «Дама с горностаем» и др.) и свою знаменитую фреску «Тайная вечеря». Он окончил ее, но, к сожалению для нас, при ее создании использовал новую технику, из-за чего фреска потускнела, а еще спустя десятилетия краска стала осыпаться. В XVIII веке ее попытались привести в порядок, но реставрация еще больше испортила фреску. И только в XX столетии удалось частично восстановить ее. Так, например, долгое время считалось, что за спинами апостолов художник изобразил деревянные двери, и только благодаря применению современных технологий стало понятно, что это не двери, а орнаменты ковров. Еще более грустная судьба ожидала и другое творение Леонардо – конный монумент Франческо Сфорца, отца правителя. Мастер очень долго работал над проектом и наконец вылепил его глиняную модель. Сам монумент он собирался отлить из 90 тонн бронзы и установить на пьедестале высотой 6 метров. Однако и эту работу он не окончил, но уже не по своей вине. Время было неспокойное, и Сфорца, предчувствуя, что скоро придется принимать участие в войне, использовал всю бронзу для отливки пушек. Вскоре после этого война действительно началась: в Милан вторглись французы. Солдаты мародерствовали и разрушали все, что не представляло для них ценности. Увидев глиняную модель монумента, они, недолго думая, раскололи его. После изгнания Сфорца из Милана Леонардо спешно покинул город, оставив там все, что ему удалось нажить за годы, проведенные в нем. Он успел захватить только деньги и наиболее ценные вещи. В течение последующих нескольких лет мастер путешествовал по Италии. Он некоторое время жил в Мантуе, принимая участие в возведении оборонительных сооружений, затем короткий период жил в Венеции. Не получив серьезных заказов, он вернулся во Флоренцию. Решив больше не заниматься живописью, он увлекся математикой, которую считал единственно верной из всех наук. Как не раз заявлял да Винчи, все, что не связано с математикой и не может быть объяснено цифрами и математическими формами, не представляет никакого интереса. Однако ему еще не раз предстояло вернуться к живописи: его шедевр, гениальная «Джоконда», еще не был написан. Он начал работу над этой картиной примерно в 1504 году. Как известно, моделью для портрета послужила Мона Лиза, жена флорентийца Франческо ди Джокондо. Критики признают, что это вершина живописного творчества Леонардо да Винчи, его лучшее произведение, оно более совершенно, чем остальные его работы. Видимо, это осознавал и сам автор: он не расставался с картиной до самой смерти. Именно при создании «Джоконды» художник впервые применил свой новаторский прием сфумато, суть которого заключалась в расплывчатом, нечетком изображении контура. Не будем подробно рассматривать в этой книге художественные приемы, которые использовал мастер при написании данной картины: на эту тему написано уже немало работ. Можно, однако, упомянуть о том, что ценность этого произведения осознали только недавно.
После смерти художника картина осталась во Франции. Долгое время «Джоконда» висела в Лувре. Ею любовались, делали с нее копии – и только. Она представляла интерес лишь для искусствоведов. Все изменилось после того, как в августе 1911 года картина была украдена итальянцем Винченце Перуджи, который решил вернуть ее в Италию. Между тем картина принадлежала французам по праву: Франциск I купил ее у самого Леонардо да Винчи, и с тех пор она находилась в королевской коллекции, а с 1793 года висела в Лувре. «Джоконду» нашли только два года спустя, торжественно вернули во Францию и снова повесили в Лувре. Но с тех пор она стала центром внимания не только искусствоведов, а еще и репортеров, а затем и туристов. Неослабевающее пристальное внимание к картине дало основание назвать ее шедевром мировой классики. С тех пор она всего несколько раз покидала Лувр: в 1963 году ее возили в США, а в 1974 году – в Японию. Тем временем сам Леонардо, окончив картину, вновь отправился в очередное путешествие. Он был не молод – ему было уже за 50. Что же заставляло его переезжать из города в город, как будто убегая от чего-то? Возможно, на него сильно повлияла смерть отца, случившаяся в 1504 году. Но, как бы то ни было, в родном городе он, по всей видимости, чувствовал себя неуютно. Возможно, всему виной были анонимные обвинения, выдвинутые против него в молодости. Единственным местом, где ему, вероятно, было хорошо, являлся Милан. В 1507 году он вернулся в этот город, намереваясь провести здесь остаток дней. Он вернул часть своего состояния: виноградники, подаренные ему Людовико Моро. В том же году умер его дядя, объявив Леонардо своим наследником. В связи с хлопотами о наследстве ему снова пришлось покинуть Милан. В 1508 году Леонардо да Винчи начал писать очередную книгу, которую назвал «О себе и о своей науке». Она начиналась так: «Начато во Флоренции, в доме Пиеро ди Браччо Мартелли, марта 22 дня 1508 года; и это будет беспорядочный сборник, извлеченный из многих листов, которые я переписал здесь, надеясь потом распределить их в порядке по своим местам, соответственно материям, о которых они будут трактовать...» Далее, предвидя критику того, что он называл своей наукой, Леонардо писал: «Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. Глупый народ! Не понимают они, что, как Марий ответил римским патрициям, я мог бы так ответить им, говоря: „Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите признать за мною права на мои собственные». Скажут, что, не будучи словесником, я не смогу хорошо сказать то, о чем хочу трактовать. Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта, который был наставником тех, кто хорошо писал; так и я беру его себе в наставники и во всех случаях на него буду ссылаться». И действительно, опыт у него был очень богатый. Решив заняться анатомией, он, не утруждая себя чтением сочинений на эту тему, начал просто изучать строение человеческого тела. Многочисленные рисунки и наброски, выполненные Леонардо по этой тематике, свидетельствуют, что он пытался не просто досконально изучить строение тела человека, а стремился постичь его совершенство, вычислить идеальные пропорции. Для этого он не только делал бесконечные наброски с живой натуры, но и вскрывал трупы. Разумеется, он, как и другие ученые того времени, был вынужден делать это тайно, иногда просто воруя тела. Особенно тщательно Леонардо изучал головной мозг и строение глаза.
Животные также стали предметом его пристального внимания. Сохранились рисунки, на которых он пытался запечатлеть полет птиц. Результатом его усилий стали сочинения «О строении человека и животных» и «Тетрадь по анатомии». Однако труды по анатомии, как известно, далеко не единственная отрасль его исследования. Он оставил после себя более 20 сочинений, среди которых: «О природе, жизни и смерти», «О силе, движении, времени и бесконечном», «О падении тел. О трении», «О законах статики», «О летании», «О равновесии и движении жидкостей», «О звездах», «О зрении, свете, тепле и солнце» и др. На протяжении большей части своей жизни он изобрел множество механизмов. Правда, большинство из них так и остались неосуществленными проектами, изображенными только на бумаге. Часть из них Леонардо описал в своих трудах «Несколько изобретений» и «Военные изобретения. Несколько рецептов». В последующие века поклонники творчества великого итальянского гения стремились воплотить в жизнь его изобретения. Одни уверяли, что построить машины по проектам Леонардо невозможно, так как там немало технических ошибок, другие, несмотря ни на что, продолжали попытки. Так, англичанин Стив Робертс собрал-таки по его чертежам летательный аппарат. При строительстве он использовал только те материалы, которые были известны в начале 1500-х годов. Он собрал машину из итальянского тополя, тростника, сухожилий животных и льна, обработанного глазурью из секрета жуков. Провести испытания согласилась Джуди Лиден, дважды завоевывавшая титул чемпиона мира по дельтапланеризму. Она провела 20 попыток, в результате которых ей наконец удалось подняться на высоту 10 метров и продержаться в воздухе 17 секунд, тем самым доказав, что машина работает. Однако, приземлившись, она заявила: «Это был самый опасный полет в моей жизни. Управлять им было почти невозможно, я летела туда, куда дул ветер, и не могла ничего с этим поделать. Наверное, так же чувствовал себя испытатель первого в истории автомобиля».
Да, Леонардо оставил после себя немало научных трудов. Половину из них он не поленился зашифровать, полагая, что человечество пока не готово читать их. Шифр итальянца был настолько оригинален, что о нем необходимо упомянуть: будучи левшой, он писал очень мелкими буквами и справа налево. Кроме того, все буквы он переворачивал в зеркальном отображении.
Леонардо продолжал свои научные опыты и изыскания, путешествовал по Италии. Он переезжал из города в город в течение 12 лет. Однако на что он жил все эти годы? На какие средства занимался наукой и проводил опыты? Наследство дяди дало ему возможность какое-то время жить безбедно. Но оно закончилось, а новых источников дохода у него не было. Он мог бы быстро сколотить состояние, вновь занявшись живописью. Однако Леонардо продолжал относиться к этому виду творчества равнодушно, считая, что живопись не представляет никакого интереса, раз ее нельзя связать с математикой. У него не было учеников, которые платили бы ему за обучение. Он оставался одиноким.
Три года он провел в Риме, находясь на службе у папы Льва X. В этот период он продолжал заниматься математикой и другими науками. На короткое время его материальное положение снова улучшилось. Но в 1515 году он покинул Рим, так как там у него не было достаточного материала для его анатомических исследований, и вскоре снова остался без средств к существованию.
Самым тяжелым для него стал 1516 год. Леонардо окончательно разорился и был вынужден распродать все свое имущество. Были дни, когда денег ему не хватало даже на пропитание. Затем с ним случился сердечный приступ, от которого знаменитый итальянец так и не оправился окончательно. К тому же денег на врача не было, и то, что он выжил, можно считать чудом. После приступа да Винчи почти перестал владеть одной рукой. В это время он очень быстро постарел, его густые волосы стали седыми, лицо покрылось глубокими морщинами. Именно в это период Леонардо написал свой автопортрет: он предстал перед потомками длинноволосым и длиннобородым стариком с мудрыми и печальными глазами и поджатыми губами, уже ничего не ждущего от жизни. В этот период он был на грани гибели.
К счастью, Леонардо да Винчи повезло: французы во главе со своим королем оказались почитателями его талантов. Особенно их восхитила созданная им «Тайная вечеря». Они разыскали Леонардо и передали ему приглашение от Франциска I переехать во Францию и жить при дворе в качестве придворного живописца и ученого. Подумав, Леонардо принял это приглашение. 17 мая 1517 года он прибыл ко двору Франциска I. Тот предоставил ему резиденцию в Клу неподалеку от Амбуаза и обеспечил всем необходимым для комфортного существования и научных работ.
Теперь Леонардо ни в чем не нуждался и продолжал творить. За два года, прожитые во Франции, он принимал участие в декораторских работах по случаю свадьбы Лоренцо Медичи и племянницы Франциска I, руководил гидравлическими работами. Его последним шедевром стал проект нового королевского дворца. Впоследствии по этому проекту возвели дворец, получивший название Шамбор, который стал одним из самых восхитительных и загадочных замков Луары. 23 апреля 1919 года Леонардо да Винчи оставил свое духовное завещание, а через несколько дней, 2 мая, великий итальянский гений эпохи Возрождения умер. Его похоронили со всевозможными почестями. Удел истинного художника – бедность. Рембрандт Харменс ван РейнНекоторое время назад попечительским советом нью-йоркского Метрополитен-музея за 2,3 млн долларов было приобретено полотно кисти Рембрандта «Аристотель с Гомером». Совет при этом счел цену весьма умеренной. Директор музея Томас Хауинг в интервью журналистам заметил по этому поводу: «Только взгляните на эту цепь! (На плече Аристотеля). Она одна стоит два с третью миллиона!». Так говорят о работах Рембрандта сегодня. Однако современники художника отказывались покупать его полотна, и большую часть жизни он провел в бедности. Воссоздать жизненный путь Рембрандта (1606–1669) полностью и абсолютно достоверно довольно сложно. Связано это в первую очередь с тем, что современники практически не оставили нам никаких воспоминаний о нем. Очень мало и документов, связанных с его именем, а его переписка, если он таковую вел, до нас не дошла. Из всех его писем обнаружено лишь семь, причем все семь были адресованы одному и тому же человеку. Касаются они специфического вопроса и почти не проливают свет на жизнь художника. Но даже эта тоненькая стопка бумаги – сравнительно обширный архив. Другие крупные живописцы того периода не оставили нам ни строчки. Конечно, голландские художники могли практически не писать писем, но гораздо вероятнее, что никто просто не считал их переписку достойной сохранения. В целом же общепринятая биография ван Рейна примерно такова: «Рембрандт Харменс ван Рейн родился в бедной крестьянской семье, проживавшей на территории Голландии. Он не получил никакого образования, но от природы был наделен гениальным даром художника и очень быстро завоевал популярность на территории всех Соединенных Провинций. Поселившись в Амстердаме, он женился на красивой и богатой девушке по имени Саския (причем исключительно по любви, а не по расчету). В это время он стал богат и знаменит. Но счастье его не длилось слишком долго. После грандиозного провала его картины «Ночной дозор», которую ему заказали несколько очень состоятельных и именитых бюргеров (картина им не понравилась, поскольку вместо обычного группового портрета Рембрандт создал гениальное полотно, что заказчики – люди от искусства безмерно далекие – не оценили), популярность его резко сошла на нет. Вскоре умирает и Саския, которую художник нежно и беззаветно любил, «Ночной дозор» помещают пылиться в чулан, а самого Рембрандта постигает полное финансовое разорение.
Заказов у него больше нет, и, проживая в нищете, он пишет только для собственного удовольствия, и то только тогда, когда удается выклянчить холст и краски. Утешением ему служат единственный сын Титус и экономка Хендрикье, которых он опять же пережил. Надломленный и одряхлевший Рембрандт умирает в возрасте 63 лет». Вот в таком виде и принято подавать публике биографию Рембрандта. Некоторые ее моменты, конечно, правдивы, но в целом эта биография – полнейшая чушь, появлению которой мы обязаны Голливуду. Именно там в 1936 году был создан фильм «Рембрандт», главную роль в котором гениально исполнил замечательный американский актер Чарльз Лоутон. Несмотря на давность создания картины, она все еще имеет определенный успех на экране и регулярно демонстрируется в США. Многие зрители, в том числе и достаточно серьезные исследователи, были очарованы замечательной игрой Лоутона, в жизни, кстати, большого знатока живописи, и приняли историю, изложенную в фильме, за чистую правду. А фильм-то был художественный, отчего в нем вполне допустимо вольное изложение событий. На самом деле Рембрандт родился в весьма зажиточной семье мельника из города Лейдена – второго по размерам после Амстердама в Нидерландах. В 9 (по другим данным – в 7) лет родители отдали его на обучение в латинскую школу, где он получил хорошее образование. В курс программы школы входило обязательное изучение таких авторов, как Цицерон, Теренций, Вергилий, Овидий, Гораций, Цезарь, Саллюст, Ливий и Эзоп. Общение в стенах сего почтенного заведения шло исключительно на «божественной» латыни, и для юного ван Рейна стало более привычно слышать латинизированную форму своего имени – Рембрандтус Харменсис Лейденсис (Рембрандт, сын Хармена из Лейдена), чем и объясняется появление на его ранних работах подписи в виде монограммы из букв «RHL». Рембрандт был прилежным учеником, что видно и из его творчества. Картины ван Рейна, посвященные мифологическим и историческим событиям, весьма достоверны и показывают глубокое знание им текстов, на основе которых писались его полотна. Основной задачей латинской школы была подготовка недорослей к поступлению в знаменитый Лейденский университет, являвшийся в то время одним из лучших в Европе. И Рембрандт поступил в него по окончании школы! Хорош неуч... Правда, проучился он в университете недолго, оставив его буквально через пару месяцев. Но причиной тому была отнюдь не его неуспеваемость (учился Рембрандт отменно), просто к тому времени он уже полностью решил посвятить себя искусству. Отец его против такого жизненного пути своего сына не возражал, видимо решив, что для продолжения бюргерских традиций рода у него есть еще восемь детей, а если его семья даст миру прекрасного художника, то это будет совсем неплохо, тем более, что талант у сына явно есть и прокормить себя живописью он наверняка сможет, а возможно, и прославит фамилию. Не лишен, видимо, был старший ван Рейн некоторого тщеславия. Тут надо дать небольшую зарисовку Нидерландов того времени. Недавно освободившаяся от власти Испании страна, несмотря на сильную децентрализацию в управлении, а может, и благодаря ей, переживала бурный экономический рост. Ее купцы и моряки вытеснили на второе место такого гегемона на морских просторах и торговых путях, как Англия, которая в промышленном и военно-морском отношении была одной из сильнейших в мире. При этом голландцы, народ не очень эстетствующий и относящийся к жизни достаточно просто (бытовало тогда такое выражение: «Жизнь нужна для того чтобы жить, пиво – чтобы его пить, а картины – чтоб на них любоваться»), имели привычку украшать свои жилища и общественные места картинами. Как писал в своих воспоминаниях о Нидерландах известный английский путешественник Питер Мунди: «Что же до искусства живописи и пристрастия людей к картинам, я полагаю, что сия страна является непревзойденной в оном ремесле и наделена множеством выдающихся мастеров, среди коих ныне здравствующие, таковые, как Рембрандт и т. д. Все без исключения стремятся украсить свои жилища, особливо прихожие и гостиные, ценными произведениями. Мясники и пекари в своих лавках отнюдь не уступают иным прочим, выгодно выставляя полотна, а еще неоднократно бывает, что кузнецы, сапожники и т. д. вешают ту или иную картину рядом со своим горном либо в своей мастерской...» Видимо, этот практичный народ полагал, что когда в доме красиво и уютно, то и жить в нем гораздо приятнее. Таким образом, ремесло художника в Нидерландах приравнивалось ко вполне почетной и уважаемой работе ремесленника. Ну а хороший ремесленник всегда сможет себя и свою семью накормить, одеть и обуть. Итак, оставив учебу в университете, Рембрандт приступил к изучению ремесла художника. Кто был его первым учителем, неизвестно. Однако он обучил юного художника азам живописи, отчего очень обидно, что имя человека, преподавшего ван Рейну азы мастерства, под чьим руководством начал проявляться талант Рембрандта, ныне предано полнейшему забвению. Вторым его учителем стал Якоб ван Сваненбург из Лейдена. Это был крепкий, хотя и лишенный «искры божьей» мастер, специализировавшийся на изображении архитектурных пейзажей и геенны огненной. Как и многие голландские художники XVII века, ван Сваненбург учился своему ремеслу в Италии, однако отсутствие таланта не позволило ему достичь высот в живописи. Впрочем, это не мешало ему быть покупаемым (как уже упоминалось выше, голландцы ценили не шедевры, а просто приятные для глаза картины). За 3 года, что Рембрандт провел у него в учениках, ван Сваненбург обучил его основам рисунка, гравюры и живописи, попутно привив стойкую неприязнь к сфере своей специализации. Действительно, несмотря на то что Рембрандт оставил нам поистине обширное культурное наследство, среди его работ нет ни одного изображения геенны огненной или архитектурного пейзажа. Нет, строения, как отдельные, так и их группы, безусловно, появлялись на его полотнах, но только в качестве фона. Уже к 17 или 18 годам Рембрандт научился у ван Сваненбурга всему, что только тот мог ему дать. При этом он проявил столь выдающиеся задатки живописца, что его отец окончательно уверился в правильности своего решения поддержать сына на пути служения музам. Старший ван Рейн был, по-видимому, крайне доволен успехами своего отпрыска, поскольку отправил его на учебу в Амстердам, к знаменитому своими картинами на историческую тематику художнику Питеру Ластману. Тот, так же как и ван Сваненбург, учился в Италии, однако был гораздо более талантлив, чем предыдущий учитель Рембрандта. Учился Ластман у Караваджо и проживавшего в Риме немецкого живописца Эльсхеймера, переняв у них новый по тем временам прием – игру светотени, создававшую ощущение таинственной глубины в затемненной части картины. Таким образом, никогда в жизни не покидавший пределов Соединенных Провинций Рембрандт косвенно являлся учеником этих двух признанных мастеров. Период ученичества ван Рейна у Ластмана надолго не затянулся. Уже через полгода Рембрандт не только освоил работу со светотенью, но и превзошел в этой области своего учителя. Вообще, Ластман оказал сильное влияние на его ранние произведения. Именно у него Ван Рейн перенял манеру использовать для своих картин яркие, глянцевитые краски, именно у Ластмана он позаимствовал театральность поз натурщиков. И вероятнее всего, именно влиянием Ластмана объясняется тот факт, что Рембрандт стал писать картины на исторические и библейские темы, хотя популярностью в Голландии они не пользовались. Конечно, эти темы считались наиболее благородными, однако же коммерческая их ценность была невелика. В среде бюргерства предпочитали картины на бытовые темы, портреты и пейзажи. Однако факт остается фактом – около 19 лет от роду Рембрандт вернулся в Лейден, где открыл собственную мастерскую и начал творить именно на религиозно-историческую тематику. Заказные же портреты он стал писать только 6 лет спустя, а за пейзажи принялся, когда ему уже миновало 40. Кстати, секретарь принца Орлеанского, посетивший в те годы его мастерскую и увидевший картину Рембрандта «Иуда возвращает тридцать серебреников», с восторгом писал: «...никакому Протогену, никакому Апеллесу никогда не удавалось и не удалось бы, вернись они на землю, сотворить то, что какой-то голландский мальчишка... у которого и борода-то еще не растет, смог выразить в человеческом лице». Лейден тогда был городом оживленным. Конечно, он уступал Амстердаму в размерах, но только ему. Архитектура его была типично голландской: высокие дома с узкими фасадами, остроконечными крышами и ярко раскрашенными ставнями вытянулись рядами вдоль улиц и каналов. Гостей города удивляла поразительная даже для Голландии чистота и опрятность города и удивительным образом контрастирующее с ней ужасающее зловоние, исходившее от застойных вод лейденских каналов, где гнили отбросы и нечистоты. А над всем этим, на холме, возвышались руины замка, который когда-то дал начало и название поселению, где вырос Лейден. Помещение мастерской Рембрандт снимал вместе с другим талантливым художником, Яном Ливенсом. Творили свои шедевры в одном помещении, иногда даже внося исправления в картины друг друга. Взаимопроникновение их было настолько глубоким, что даже опытнейшие мастера часто не могут отличить раннего Рембрандта от раннего Ливенса. В Лейдене у Ван Рейна было несколько учеников, однако сколько-нибудь хорошим художником из всех них стал только Геррит Дау, который пошел в ученичество к 20-летнему Рембрандту будучи едва 15 лет от роду. Он быстро усвоил стиль ранних миниатюрных картин своего учителя, но того мастерства, что было у Рембрандта, так и не достиг. Впрочем, он впоследствии стал очень модным художником, и современники часто платили за его картины больше, чем за картины его учителя. Это был очень скрупулезный в прорисовке деталей мастер. Однажды, когда его похвалили за мастерство в изображении метлы размером с ноготь, Дау возразил, что метла еще не закончена: ему предстоит еще три дня потратить на ее отделку. Рембрандт, в отличие от Дау и многих других художников того времени, работал не только маслом. Он создал множество рисунков и гравюр, оставаясь талантливым и в этих областях. И если юношей, едва закончив обучение, он был всего лишь талантливым художником, которых тогда в Голландии было 13 на дюжину, через какие-то 5 лет он уже перерос всех своих коллег и в профессиональном росте не останавливался до самой смерти. Где-то в 1631–1632 годах Рембрандт перебрался в Амстердам, который был тогда ведущим портовым городом Северной Европы. Это, как теперь говорят, был город больших возможностей. По отзыву бывавшего там французского философа Рене Декарта, «всякий так поглощен извлечением собственной выгоды, что я мог провести там целый век, оставаясь не замеченным ни одной живой душой». Приехав в Амстердам, Рембрандт обратился к написанию портретов. Спрос на его работы был столь велик, что желающие получить свое изображение кисти ван Рейна записывались в очередь. А ведь ему приходилось соревноваться с такими знаменитыми мастерами портретной живописи того времени, как Томас де Кейзер и Николас Элиас. Жил Рембрандт в тот период в доме художника и торговца по имени Хендрик ван Эйленбург, с которым заключил договор о совместной деятельности. Домовладелец его зарабатывал на жизнь тем, что содержал так называемую академию, фактически являвшуюся художественно-промышленной мануфактурой, где молодые и никому не известные художники набивали руку и кошелек тем, что писали копии продаваемых ван Эйленбургом картин. Конечно, Рембрандт уже был слишком хорошим и известным художником, чтобы зарабатывать на жизнь таким образом. Правда, суть услуг, которые он оказывал ван Эйленбургу, до сих пор не известна, да и вряд ли когда-нибудь прояснится, но что известно доподлинно, так это то, что картины Рембрандта поступали на «художественную фабрику» его домовладельца, откуда их копии шли в провинцию. Конечно, люди знали о том, что покупают копии, однако в более позднее время эти «художества» стали серьезной головной болью для искусствоведов. И по сей день многие обладатели изготовленных на «фабрике» ван Эйленбурга копий считают себя счастливыми владельцами подлинных произведений Рембрандта. 1632 год стал для Рембрандта триумфальным. Гильдия медиков заказала ему групповой портрет, который не только был исполнен им с высочайшим мастерством, но и сломал все каноны написания таких произведений. Групповой портрет – изобретение чисто голландское. Возник он исключительно благодаря стремлению предводителей гильдий, благотворительных обществ, ополчений и прочих организаций украсить стены залов своих собраний собственными изображениями. Обыкновенно для таких портретов позировало не менее 6 человек, и художественная ценность картин, как и расположение заказчиков в композиции, была примерно такой же, как на современных групповых фотографиях. «Урок анатомии доктора Тульпа» был совершенно иным. Рембрандт обратился при написании этого полотна к пирамидальной композиции. Восемь членов гильдии, а изображены они, видимо, были очень похоже, судя по восторженным отзывам на картину, наблюдают за важным событием: вскрытием трупа недавно повешенного преступника знаменитым голландским врачом доктором Тульпом. Расставлены они при этом отнюдь не в произвольном порядке, чем и объясняется целостность композиции, добиться которой не могли предшественники Рембрандта. Успех картины был оглушительным. Рембрандт, который и до этого не мог пожаловаться на недостаток клиентов, теперь просто физически не успевал писать портреты всех желающих. В 1630-х годах он написал не менее 65 портретов, и вполне вероятно, что немало работ, выполненных в это же десятилетие, просто-напросто утрачено. Изредка Рембрандт иллюстрировал и книги, написанные его друзьями. Зарабатывал Рембрандт в этот период очень хорошо. Мог бы и больше, конечно, но несмотря на то, что основу его доходов составляла портретная живопись, он не оставлял и других направлений своей творческой деятельности. Ван Рейн по-прежнему писал полотна на библейские и мифологические сюжеты, пробовал силы в пейзаже. Кроме того, он создавал некоммерческие картины – такие, как автопортреты, к которым питал определенную слабость (автопортреты Рембрандт начал писать еще в юности; практикуясь перед зеркалом, он просто добивался мастерства в отображении мимики), и портреты неизвестных людей, чем-либо привлекших его внимание. Многие из работ того периода отражают чрезвычайно приподнятое состояние его духа, и отыскать причину тому совсем нетрудно. Где-то в 1632 году он познакомился с осиротевшей кузиной ван Эйленбурга, Саскией, и тогда же начал за ней ухаживать. В том же году он создал ее первый портрет. Тогда ему было 26 лет, а ей – 20.
Это была красивая, но несколько засидевшаяся в девках барышня. Богатая наследница, дочь бургомистра фрисландского города Лейвардена, Саския была завидной партией, однако жертвовать своей свободой ради разнообразных ухажеров отнюдь не торопилась. Рембрандту же довольно быстро удалось произвести на нее впечатление, и 5 июня 1633 года была объявлена помолвка. А несколько дней спустя Рембрандт выполнил изысканный портрет девушки серебряным карандашом. При создании рисунков этим инструментом, представляющим собой обычное серебряное стило, на специально подготовленную поверхность, а в случае с рисунком Саскии это был тонкий лист пергамента, наносятся линии и штрихи, собственно любой рисунок и составляющие. При этом стереть их уже нельзя, так что любая ошибка художника ведет к порче его творения. Рембрандт не допустил ни единого огреха, создав замечательный портрет своей невесты. Трудно сказать, любил ли он ее по-настоящему. Вероятно, да. По крайней мере он часто и охотно изображал ее на своих картинах. Рембрандт Харменс ван Рейн и Саския ван Эйленбург обвенчались в 1634 году. Пользуясь своими связями, Саския ввела супруга в высшее общество Нидерландов, куда до этого Рембрандту путь был заказан. Его работы пользовались все большим спросом, а творчество достигло наивысшего накала, какого ни до, ни после супружеской жизни с Саскией у него не было. Он творил неистово, яростно, вдохновенно. Именно на этот период приходится основная часть покупок в его коллекцию, на что, между прочим, ушли просто бешеные деньги.
Да, Рембрандт был коллекционером, и эта страсть проявилась у него еще в Лейдене. Однако коллекционировал он не разные безделушки, хотя и милые, но в хозяйстве совершенно бесполезные. Нет, он собирал коллекцию реквизита для написания картин. Рембрандта очаровывали красочные восточные одеяния, роскошные ткани, драгоценности и различные диковинки, которые привозили домой голландские мореходы. Его биограф Бальдинуччи писал: «Он частенько бывал на открытых распродажах и аукционах, где покупал старомодные и поношенные одеяния, если таковые казались ему диковинными и живописными, и хотя порой оные оказывались невероятно грязными, он развешивал их по стенам своей студии среди очаровательных безделушек, обладание коими также доставляло ему изрядное удовольствие. Это было всяческого рода старинное и современное оружие – стрелы, алебарды, кинжалы, сабли, ножи – и бесчисленное множество изысканных рисунков, гравюр, медалей и всяческих вещей, каковые, по его мнению, могли когда-либо пригодиться художнику». Тот же Бальдинуччи писал и о том, что, появляясь на аукционах, где, собственно, Рембрандт и закупал предметы своей коллекции, он «с самого начала так взвинчивал ставки, что никто другой и не пытался их перебить; а еще он говорил, что поступает подобным образом, дабы подчеркнуть достоинство своего ремесла». При этом, даже находясь на вершине славы, Рембрандт был человеком глубоко религиозным. Выражалось это, правда, не в огромных суммах, жертвуемых на «прощение грехов», и не в постоянном битье поклонов перед ликами святых. Нет, пословица про дурака, которого заставили Богу молиться, к нему никак не подходит. Его вера была не пассивной, а активной. Эта его жизненная позиция, его отношение к тому, как следует вести себя христианину, лучше всего нашли отражение в гравюре Рембрандта «Великодушный самаритянин». Произведение это, созданное ван Рейном в 1633 году, современников попросту шокировало, да и сейчас на многих оказывает неприятное впечатление. А ведь Рембрандт вложил в него глубокий философский смысл. На гравюре была изображена следующая библейская сцена: пострадавшего путника снимают с коня перед таверной, в которую привез его самаритянин. В самом центре композиции находится несколько неуклюжих, неприятных зевак, а на передний план Рембрандт поместил такое, что себе и современные-то художники редко позволяют, – собаку, присевшую, чтобы справить естественную надобность. Экая мерзость, не правда ли? Неправда. Гравюрой своей ван Рейн хотел показать, что, конечно, замечателен поступок самаритянина, помогшего путнику, хотя, исходя из заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это его прямая обязанность. Но, ко всему прочему, если Бог дал людям тела, отнюдь не являющиеся образцом античной красоты, не человеку судить об этом, не ему чураться этого решения. А уж если Бог создал бродячих псов, дав им ту же способность справлять свои естественные потребности, что и всем живым существам, включая королей, епископов и самого папу римского, то не человеку же осуждать это. Христианин должен с почтением относиться ко всему сущему, даже если порой оно внушает ему отвращение. Так, по крайней мере, расшифровывают смысл «Великодушного самаритянина» искусствоведы. Во время создания «Великодушного самаритянина» Рембрандт одновременно работал над серией полотен, посвященных Страстям Господним, заказанных для оформления дворца принца Фредерика Генриха Оранского, главы Соединенных Провинций. Это весьма важное поручение скорее всего было добыто для мастера секретарем принца и горячим поклонником творчества Рембрандта Константином Гюйгенсом. К 1633 году художник завершил два полотна – «Возведение креста» и «Снятие с креста». Позднее были заказаны «Положение во гроб», «Воскресение» и «Вознесение», над которыми Рембрандт трудился до конца десятилетия. В 1630-е Саския очень часто появлялась на картинах, гравюрах и рисунках Рембрандта, являвшихся как бы ее историей болезни. В первые годы брака это молодая и привлекательная девушка, но со временем становится ясно, что фрау ван Рейн гложет внутренний недуг. В 1635 году она родила Рембрандту сына Ромбарта, который прожил всего два месяца. В 1638 году и второй их ребенок, дочь Корнелия I, тоже умирает в младенчестве, равно как и третий – Корнелия II, в 1640 году. По всей вероятности, именно во время недолгой жизни Корнелии I Рембрандт и нарисовал трогательный портрет Саскии с ребенком на коленях. Хотя ей в ту пору исполнилось только 26 лет, на рисунке она выглядит вдвое старше, а на лице ее явно видны следы усталости и отчаяния. Но, несмотря на болезнь жены и смерть детей, картины Рембрандта не стали ни печальными, ни меланхоличными, да и вкуса к жизни на широкую ногу он не утратил. В 1639 году он, как бы желая показать всем, что художник, слуга муз, ничем не уступает всяким там зажиточным купцам и знатным нобилям, приобрел за огромный заклад прекрасный дом в Еврейском квартале Амстердама, на улице Анто-Нисбрестрат. В настоящее время этот дом стал музеем Рембрандта. В его фасад были внесены некоторые поправки, на нем был надстроен еще этаж, но то, что это было очень капитальное вложение денег и дом был весьма солидным зданием даже в 1639 году, сомнений ни у кого не вызывает. Впрочем, что касается денег, следует заметить, что Рембрандт до них жаден не был. Безусловно, он питал к ним, вернее, к тому, что на них можно купить, вполне здоровый человеческий интерес. Он тратил их на красивую одежду и драгоценности для жены и себя, любил вкусно покушать, предпочитал хорошее вино, в общем, стремился жить весело и вольготно. В то же время многие его сограждане делали накопление денег самоцелью. Им не важно было, что они могут на них приобрести. Деньги, деньги, деньги! Вот что им было нужно. Потратить же их... Как выразился раджа в сказке «Золотая антилопа»: «Свои таньга я никому не отдаю». Посол Великобритании в Нидерландах сэр Уильям Темпл писал, что здесь «встречаются приятные молодые щеголи, но нет неистовых влюбленных». По его отзыву, голландские бюргеры предпочитали отвлекаться от текущих проблем в тавернах, а не в постели. Супружеские пары быстро становились холодными деловыми партнерами. Жены растрачивали невостребованную энергию в частых, фанатичных домашних уборках, пока мужья добывали золото. Рембрандта такая жизнь, если это можно назвать жизнью, совершенно не устраивала. Он любил женщин вообще и свою жену в частности, без тесного общения с противоположным полом он себя просто не мыслил. Нетипичный он был голландец. В конце 30 – начале 40-х годов XVII века у Рембрандта было так много учеников, что для занятий с ними он арендовал пакгауз. Ученики работали в небольших комнатках, а ван Рейн переходил от одного к другому, делая замечания и внося поправки. Однажды во время таких занятий произошел презабавнейший инцидент, описанный одним из биографов Рембрандта, Xаубракеном. Случилось вот что. В одной из комнаток молодой ученик Рембрандта (имя его до нас история не донесла) рисовал с обнаженной натуры, и «поскольку молодые люди, особливо если их много вместе, порой впадают во грех, так вышло и тут... Сие пробудило любопытство остальных, каковые в одних носках, дабы не быть услышанными, по очереди подглядывали сквозь отверстие в стене, проделанное ради оказии. А случилось так, что в тот знойный день и художник, и натурщица были совершенно наги. Зрители сей комедии без труда могли внимать веселым шуточкам и словечкам, коими обменивались оные двое. В сей же час подошел и Рембрандт, дабы поглядеть, чем заняты его ученики, и, по своему обычаю, дать им наставления одному за другим. Так вот он и дошел до комнаты, где двое обнаженных сидели бок о бок». Человека, создавшего гравюры под названиями «Мужчина, справляющий малую нужду» и «Французская постель», вряд ли можно было смутить чем-то подобным, однако же как учителя его, видимо, покоробил тот факт, что на его занятиях, вместо того чтобы заниматься делом, занимаются всякой ерундой. «Рембрандт понаблюдал некоторое время за их потехами сквозь упомянутое отверстие, пока не услышал таковые слова: „Теперь мы точь-в-точь Адам и Ева, ибо тоже наги“. С этим он постучал в дверь малынтиком (некое подобие костыля с подушечкой, на который живописец опирает руку во время работы) и крикнул, к великому ужасу обоих: „Но раз вы знаете свою наготу, вы должны быть изгнаны из рая!“. Угрозами вынудив своего ученика отпереть дверь, он вошел, нарушив игру в Адама и Еву и обратив комедию в трагедию, в тычки изгнал подложного Адама с его Евою, так что им едва удалось, сбегая по лестнице, кое-как прикрыться одеждою, дабы не появиться на улице нагишом». Ирония судьбы в том, что как раз в этот период Рембрандт работал над лучшей из своих гравюр – «Адам и Ева». В 1642 году умерла Саския. Умерла, не дожив до своего 30-летия несколько недель и оставив мужу младенца-сына Титуса, которому не исполнилось и года. Во время ее болезни Рембрандт исполнил гравюру, где изобразил жену такой, какой она была в свои последние месяцы, с ввалившимися, подернутыми смертной пеленой глазами. Год спустя он, словно для того, чтобы в его глазах и глазах окружающих Саския навсегда осталась прекрасной, на редкой и дорогой доске красного дерева написал ее посмертный портрет, где она снова была юна и свежа. Тогда же он написал и «Вдовца», хотя и не автопортрет, но явно сценку из своей новой жизни, достаточно юмористическую, надо заметить. На полотне изображен мужчина, отчаянно пытающийся покормить малолетнего сорванца с ложечки. Видимо, больших способностей он был человек, если нашел в себе достаточно силы воли, чтобы посмеяться над своим положением. В последние дни своей жизни Саския составила завещание. Согласно действовавшему на тот момент законодательству, половина состояния супругов принадлежала ей и она могла им распорядиться по своему усмотрению. И она распорядилась, не догадываясь, какую неприятность оказывает любимому супругу. Саския завещала свою долю имущества и денег Титусу, оговорив, что ее муж может получать с них проценты до женитьбы или совершеннолетия их сына. Было там и еще одно условие. Согласно ему, в случае повторного брака Рембрандта ее половина состояния вместе с процентами от капитала перейдет не к Титусу, а к одной из ее сестер. Бедной женщине и в голову не приходило, что ее мужа могут постигнуть серьезные финансовые трудности, ведь он был так популярен на момент ее смерти. А женить его пытались. Он был еще не стар, знаменит и не беден – ну чем не идеальный жених? Вот только один такой случай. Вскоре после смерти Саскии ван Рейна озаботила проблема обеспечения сыну нормального ухода. Учитывая то, что сам он в этом деле разбирался довольно слабо, да и работать было нужно, он в 1642 году нанял няню, некую Гертье Диркс, вдову трубача. Характер у женщины был тяжелый и неуживчивый, однако дело свое она знала. Эта женщина прожила в доме Рембрандта 7 лет, пока терпение ван Рейна наконец не истощилось, он ее уволил. После этого женщина подала в суд на своего бывшего хозяина, утверждая, что он обещал на ней жениться и подарил кольцо в знак серьезности намерений. Рембрандт отказывался, однако суд ему не поверил даже после того, как было оглашено завещание Саскии. Видимо, судьи считали, что доходы ван Рейна позволяли ему отказаться от процентов с доли покойной жены, которые и правда были не слишком велики, однако суд не учел то обстоятельство, что Рембрандт все доходы спускал на пополнение коллекции, а в повседневной жизни жил очень скромно, практически считая каждую копейку. Да и популярность его была уже не та, что прежде. В общем, суд присудил Рембрандту выплачивать Гертье 200 гульденов годового содержания. Правда, в 1650 году та, вероятно не без помощи ван Рейна, была заключена в исправительный дом города Гауда, но содержание Рембрандт был вынужден продолжать выплачивать, что он и делал до самого ее освобождения в 1655 году. Место Гертье в доме Рембрандта ван Рейна заняла другая женщина, Хендрикье Стоффельс, которая была почти на 20 лет моложе Рембрандта. Дочь солдата, вначале она стала служанкой, потом натурщицей, а затем и гражданской женой художника. Это была ласковая, простая, добродушная девушка, которая как нельзя лучше подходила на роль спутницы человека, постоянно преследуемого несчастьями. Когда ей было чуть за 20, она родила ван Рейну ребенка, который, правда, умер еще младенцем. Спустя 2 года у Хендрикье родилась дочь, которую назвали так же, как и двух предыдущих (покойных) дочерей Рембрандта – Корнелией.
Рассказывая о Рембрандте, нельзя не упомянуть о самом большом мифе о нем. Миф о том, что его картина «Ночной дозор» (настоящее название – «Рота капитана Франса Еаннита Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга») стала причиной его разорения. Сравнительно недавно, в 1967 году, нидерландская авиакомпания распространила рекламный буклет с репродукцией картины знаменитого соотечественника, приглашавший туристов навестить Нидерланды, со следующими словами: «Вы увидите „Ночной дозор“, потрясающий „провал“ Рембрандта, из-за которого художника с улюлюканьем погнали... по дороге разорения». Этот миф критиковали многие искусствоведы, а несколько лет назад он был окончательно развеян профессором Сеймуром Слайвом из Гарварда в работе «Рембрандт и его критики». Впрочем, в красивую историю верить легче, потому этот миф по сей день имеет хождение. А ведь на самом деле групповой портрет, каковым является «Ночной дозор», очень понравился заказчикам – капитану Коку и 16 бойцам его роты. Ни один критик при жизни Рембрандта худого слова не сказал об этом полотне, а сам Баннинг Кок сделал с нее акварельную копию для своего личного альбома. «Ночной дозор» никогда никуда не прятали! Вначале картина находилась в Кловенирсдолен, штабе ополчения, а в 1715 году ее даже перевезли в амстердамскую ратушу. За «Ночной дозор» Рембрандту заплатили 1600 гульденов, а четырьмя годами позже герцог Оранский уплатил ему 2400 гульденов за две более мелкие работы. Если это провал, то что такое успех? А живучесть сказки о провале «Ночного дозора» объясняется тем, что в момент написания этого шедевра Рембрандт как раз находился на пике славы и популярности, которые затем потихоньку начали убывать. Объясняется упадок популярности просто. К середине XVII века вкусы голландской буржуазии коренным образом изменились. Благодаря успехам молодого государства в колонизации новых земель и международной торговле в руках буржуа скопились значительные богатства, что привело к появлению моды на шикарную жизнь, на выставление напоказ своего богатства и положения в обществе. В моду вошли яркие, красочные, изящно выполненные портреты – такие, какие писал фламандец ван Дейк. Глубина, некоторое напряжение духа, которые им приходилось проявлять при рассмотрении картин Рембрандта, его игра со светотенью уже были не востребованы, не модны. Покупатели хотели легких, развлекающих картин, гениальность же полотен ван Рейна оказалась никому не нужна. Многие ученики Рембрандта приспособились ко вкусам потребителей, их тщательно прописанные картины пользовались большим спросом, да и платить им начали больше, чем их учителю. При этом сам Рембрандт был, судя по всему, абсолютно лишен профессиональной ревности. Неизвестно, конечно, радовался ли он успехам своих учеников, но по крайней мере никакого неудовольствия по поводу сложившейся обстановки он не проявлял. Более того, по свидетельствам современников, Рембрандт охотно предоставлял предметы своей обширной коллекции коллегам, чтобы они могли использовать их в качестве реквизита при написании картин. Причем не только тем, кто были небогаты, но и тем, кто зарабатывал больше, чем он сам. Сам же Рембрандт своими принципами написания картин поступиться не пожелал, хотя заказов у него было все меньше и меньше, а траты возрастали. Работы его становились все более сдержанными, глубокими, все более гениальными и, к сожалению, все более невостребованными. Лишь немногие истинные ценители продолжали покупать его картины, но таких заметно поубавилось: что поделать, мода непредсказуема... Да и особым пиететом по отношению к заказчикам ван Рейн не отличался. Так, Хаубракен описывает в биографии Рембрандта следующий случай: «Однажды он работал над большим групповым портретом некой супружеской пары с детьми. Когда портрет был готов наполовину, вдруг издохла его [Рембрандта] обезьянка. Поскольку под рукой у него другого холста не оказалось, он вписал издохшее животное в вышеупомянутый портрет. Естественно, заинтересованные лица не хотели терпеть присутствия на том же полотне омерзительной мертвой обезьяны. Но не тут-то было: Рембрандт так восторгался той моделью, каковую являла мертвая обезьяна, что предпочел оставить полотно у себя незавершенным, не согласившись замазать обезьяну в угоду заказчику». Далеко не каждый заказчик готов был вытерпеть подобный выверт. В конце концов Рембрандт утратил остатки взаимопонимания даже со своим бессменным покровителем Константином Гюйгенсом. Дошло до того, что, когда вдова принца Оранского поинтересовалась у последнего, кто из художников мог бы достойно украсить Гёс тен Бош («лесной домик»), ее новую резиденцию близ Гааги, тот предоставил ей список, включавший и немало учеников Рембрандта, но не его самого. Еще одной причиной упадка спроса на его работы была тематика полотен ван Рейна. Две трети его картин относятся к жанру портрета, однако на многих из них изображены библейские и новозаветные персонажи. В целом он написал по этой тематике около полутора сотен картин, сотворил восемь десятков гравюр и нарисовал больше шести сотен рисунков. Конечно, когда он начинал, картины на религиозные темы пользовались определенным спросом, хотя это уже была эпоха заката таких картин в Голландии, однако уже к середине 40-х годов XVII века Рембрандт был единственным из голландских художников, создававшим картины на сюжеты Писания. Заказы на эти произведения Рембрандту практически не поступали, но он упорно продолжал их писать. Вероятно, он все же не терял надежды продать их, однако те из покупателей, кто готовы были потратить свои деньги на некоммерческие картины, предпочитали покупать пейзажи и жанровые сценки. И все же полностью заказов он не лишился. Конечно, в 1650-х годах у Рембрандта их было гораздо меньше, чем в 1630-х, но и стоили его работы намного больше. К тому же у него еще оставались покровители. Он получал крупные заказы – такие, как картина «Аристотель с Гомером», написанная в 1654 году для сицилийского аристократа, коллекционера и знатока живописи, дона Антонио Руффо. Сколько тот заплатил за этот шедевр, доподлинно неизвестно, однако его желание заплатить Рембрандту больше, чем своим соотечественникам, известно. А итальянские мастера с клиентов, что называется, три шкуры драли. Имелись у Рембрандта и иные доходы. По-прежнему продавались его эстампы, учеников у него было много, его эскизы расходились по всей Европе и приносили ван Рейну мировую славу. Нет, причиной упадка его состояния была не какая-то разорительная сделка, не какой-либо разовый ущерб. Живописец с умеренными аппетитами вполне мог бы процветать, имея доходы Рембрандта, однако тот в отношении денег не отличался ни скупостью, ни умеренностью. Страсть к пополнению коллекции больно била по его кошельку, но остановиться он, по-видимому, не мог. К тому же, если верить Бальдинуччи, ван Рейн попытался провернуть крупную аферу со своими работами. Желая поднять цену на свои офорты «до невообразимого уровня... скупал их по всей Европе, где только мог найти, за любую цену». Коллекционеры, конечно, были готовы выложить за его работы достаточно крупные суммы, но отнюдь не те, на которые рассчитывал художник. В результате он оказался с офортами, цены на которые падали, и без денег. Как и многие другие голландские художники XVII века, он периодически приобретал чужие произведения для перепродажи, но и это начинание не принесло ему успеха. Основными же причинами разорения стали неумение Рембрандта управлять делами, пренебрежение ко вполне справедливым требованиям кредиторов и ненасытность в пополнении собственной коллекции. Ну и конечно, большую роль сыграл купленный в рассрочку дом. В 1639 году Рембрандт купил для себя и Саскии, о чем упоминалось выше, собственное жилище. Стоило оно 13 тыс. гульденов, из которых ван Рейн уплатил только 1200. Спустя 15 лет он все еще был должен 8 470 гульденов, включая неуплаченные налоги и набежавшие проценты. Можно, конечно, было продать дом, расплатиться с долгами и купить жилье подешевле, однако Рембрандт должен был заботиться о наследстве Титуса, да и престиж не позволял пойти на такое. В конце концов ван Рейну удалось переоформить дом на сына, однако это не значило, что долги его уменьшились. В качестве залога платежеспособности он предоставил собственное имущество. Кредиторы тем временем продолжали наседать, и в 1656 году Рембрандт оказался разорен. Отправившись в городской совет Амстердама, Рембрандт просил о cessio bonorum (переуступке товаров), предлагая передать свое имущество в ведение кредиторов. Сessio bonorum был механизмом гражданского права Нидерландов (ныне он успешно перешел в большую часть правовых систем, а также в международное частное право), применявшийся на основании «ущерба в море и торговле», что считалось менее унизительным, чем обычное объявление о банкротстве. Совет пошел навстречу знаменитому земляку, и его ходатайство было удовлетворено. Однако эта мера носила исключительно «косметический» характер. Будучи неплатежеспособным де-юре, Рембрандт ван Рейн де-факто полностью обанкротился. Судебный пристав описал его имущество, и оно было реализовано на ряде аукционов в 1657–1658 годах. Опись, вероятно, делалась при содействии самого Рембрандта который своей коллекцией очень гордился. Всего было назначено 363 лота. Большую часть описанного имущества составляли произведения искусства, однако были там и иные предметы. Вот их далеко не полный список: «Два глобуса. Одна коробка, полная минералов. Сорок семь образчиков земных и морских тварей и прочих вещей того же рода. Одно ружье и пистолет. Несколько тростей. Один арбалет. Несколько редких чашек венецианского стекла. Один большой кусок белого коралла. Одна индейская корзина, полная гипсовых отливок и голов. Один ящик с райской птицей и шестью веерами. Тридцать три предмета древнего ручного оружия, стрел, палиц, ассегаев и луков. Тринадцать штук бамбуковых духовых инструментов и дудок. Коллекция оленьих рогов. Пять старых шлемов и щитов. Одна малая металлическая пушка. Одна [пара] индийских костюмов для мужчины и женщины. Шкуры льва и львицы с двумя крашеными шубами». В опись внесли и около семидесяти полотен самого Рембрандта, обозначенных как «14. Один „Святой Жером“ Рембрандта. 15. Один маленький холст с зайцами, того же. 16. Один маленький холст с боровом, того же... 60. Одна маленькая картина пастуха с животными, того же». Из распроданных тогда полотен до нас дошли только десять. За пару недель до выставления на аукцион коллекции рисунков и офортов Рембрандта по Амстердаму был распространен рекламный листок, содержащий следующие слова: «Попечители имущества несостоятельного должника Рембрандта ван Рейна... распродадут... нижеупомянутые бумажные произведения... вместе с изрядной частью рисунков и эскизов оного Рембрандта ван Рейна... Передайте дальше». Стоимость коллекции Рембрандта оценили приблизительно в 17 тыс. гульденов, чего с лихвой хватало для покрытия долга, однако выручено было всего 5 тыс. гульденов, а этого было недостаточно. Низкие цены объяснялись целым рядом факторов. Это и упавшая популярность Рембрандта, и экономическая депрессия, ставшая следствием англо-голландской войны, и происки конкурентов.
Вот по крайней мере один случай, когда собратья по гильдии Святого Луки навредили Рембрандту. Незадолго до того, как коллекция «бумажных произведений» (рисунки и офорты) была выставлена на торги, коллеги ван Рейна, совершенно обоснованно предположив, что распродажа столь обширной и роскошной коллекции существенно приведет к снижению спроса на их полотна и собьет цены на рынке художественных изделий, устроили массовую распродажу своих картин по сниженным ценам. В результате замечательная коллекция Рембрандта была продана за смешную сумму в какие-то 600 гульденов. К 1660 году стало совершенно очевидно, что за дом Рембрандт расплатиться не сможет. Он был вынужден перебраться на наемную квартиру подальше от центральных районов Амстердама, где квартплата была сравнительно невелика. Вместе с ним там поселились сын Титус, Хендрикье и дочь Корнелия. Многие бывшие друзья и покровители художника перестали поддерживать с ним отношения. Однако его покинули не все. Были и такие, кто остался с ним в этот трудный период жизни, и даже, более того, взял на себя заботу о его дочери после смерти мастера. Такие, например, как поэт Иеремия де Деккер, написавший по поводу неверных друзей ван Рейна следующие слова: Когда свой отвращает лик фортуна, Конечно, нельзя сказать, что последние годы Рембрандт провел в окружении поклонников его таланта, но друзья у него все же оставались. И Хендрикье делала все возможное, чтобы скрасить последние годы его жизни. К тому же Рембрандт придумал оригинальный и остроумный способ обойти свои долги, для погашения которых он был обязан передавать кредиторам все деньги, которые мог получить от грядущих продаж своих произведений. Еще в 1658 году Хендрикье и достигший 17-летия Титус образовали фиктивное «кумпанство» по торговле произведениями искусства, официально наняв ван Рейна на должность консультанта и выплачивая ему в виде «зарплаты» заработанные им деньги. Всем все было понятно, но придраться было не к чему: все происходило в рамках закона. А заказы были. Например, дон Антонио Руффо, в 1652 году заказавший Рембрандту картину «Аристотель с Гомером», в 1661 и 1663 годах приобрел еще два полотна – «Александр Великий» и «Гомер». В 1669 году, незадолго до смерти Рембрандта, Руффо вновь обратился к нему с солидным заказом на 189 эстампов, каковые Рембрандт отобрал и выслал сицилийцу. Более того, Рембрандт вновь начал собирать свою коллекцию! Масштабы были, конечно, уже не те, но сам факт говорил о многом. В 1663 году Рембрандта постиг новый удар судьбы – умерла Хендрикье, а в 1668 году, прожив чуть более полугода после женитьбы, умер и Титус, оставив сиротой еще не родившуюся дочь. От этого двойного удара он так до конца и не оправился, что заметно по его творчеству. В последние годы религиозные полотна Рембрандта были полны ощущения безысходности и беспомощности даже самого могущественного человека перед Богом. Его вера ничуть не ослабла, но он обратился к трагическим темам из-за собственных горестей. Из всех близких ван Рейну людей в живых осталась лишь незаконнорожденная дочь Корнелия, поселившаяся в далекой колонии на Яве. Она родила двух детей и, как достойная дочь своей благородной матери, назвала их Рембрандтом и Хендрикье. Но чем тяжелее ему становилось, тем с большим упорством он писал, тем лучше, насыщеннее смыслом становились его полотна. Дух художника не был сломлен. Все исследователи его творчества единодушны: свои лучшие картины Рембрандт написал в последние годы жизни. 4 октября 1669 года закончился земной путь Рембрандта Харменса ван Рейна, гениального живописца и несчастного человека, прожившего нелегкую жизнь и пережившего всех своих детей, кроме незаконнорожденной дочери. Он оставил потомкам потрясающее по своим размерам художественное наследие – примерно 500 картин (из них около 80 являются автопортретами) и больше 1500 рисунков. Это был гений, который навеки вписал золотыми буквами слово «Нидерланды» в историю искусства, но, как и большинство гениев, при жизни практически не был понят современниками. Джакомо Джованни КазановаЭто был высокий, под два метра ростом, атлетически сложенный и, безусловно, красивый мужчина лет около сорока. Одет он был по последней французской моде, с некоторой изящной небрежностью, которая во все времена являлась показателем хорошего вкуса, гордая постановка головы выдавала человека, который не привык никому кланяться, взгляд его был несколько надменен, но ровно настолько, насколько это бывает у сильных, независимых людей, достигших определенного положения в обществе и знающих себе цену. Надо отметить, что этот человек, который шел по ночному Санкт-Петербургу времен царствования преславной императрицы Екатерины Великой, был явно в приподнятом настроении. Время было уже за полночь, однако он отчего-то не воспользовался каретой (глянув на этого щегольски одетого человека, нельзя было и предположить, что кареты у него нет), а возвращался пешком, надеясь, видимо, в случае неприятностей на крепкие руки и длинную итальянскую шпагу, висевшую у него на боку. Впрочем, неприятных неожиданностей не предвиделось, поскольку Миллионная улица, по которой шел мужчина, была местом достаточно тихим и спокойным, населенным людьми зажиточными и уважаемыми. Спокойно добравшись до дома, который снимал, мужчина перешагнул порог, мурлыкая себе под нос какой-то незатейливый мотив. Хорошо проведенный день закончился прелестно прошедшим вечером, и вот он дома, где его ждут... Он едва успел пригнуться – тяжеленная бутылка из-под вина ударила в дверной косяк, как раз в то место, где только что была его голова, и разлетелась вдребезги. – Заира, ты с ума сошла? – спросил он, выпрямляясь и стряхивая с камзола бутылочное крошево. – Ты меня чуть не убила! – И жаль, что не убила, негодяй! – со слезами в голосе закричала молодая, прекрасная той неописуемой славянской красотой, которая нигде более, кроме как в России, не встречается, девушка. – Ты... Ты опять мне изменяешь, мерзавец! – Pater Noster... – тяжело вздохнул мужчина. – Ну с чего ты это себе взяла? Опять карты сказали? – Да! – Porca Madonna! – экспрессивно выкрикнул мужчина и, схватив какой-то вазончик, расколотил его об пол. – Подумать только, я заплатил проходимцу Зиновьеву сто рублей... За что, спрашивается?!! За ревнивую кошку, которая того и гляди меня угробит только потому, что рядом с червонным королем у нее легла пиковая дама?!! Варварская страна, варварский народ! Когда, ну когда ты перестанешь раскладывать свои дурацкие карты! Я уже в собственный дом входить боюсь! Нет, я выбью дурь из твоей пустой башки! Заира взвизгнула и попыталась скрыться в соседней комнате, однако была схвачена и порота кожаной перевязью от шпаги. При этом мужчина безбожно ругался, мешая итальянский, французский, русский, латынь и еще несколько языков, как мертвых, так и вполне современных. Наконец вопящей и брыкающейся Заире удалось вырваться и сбежать. – Подумать только... – устало сказал мужчина. – Я, Джакомо Джованни Казанова, шевалье де Сенгальт, побывавший чуть ли не при всех дворах Европы, развлекаюсь по вечерам тем, что порю крепостную девку, словно какой-то варвар-боярин. Рассказать кому – не поверят. Кошмар! Не-ет, надо уезжать из этой страны. Здесь я просто умру... На самом деле ему еще предстояло прожить более 30 лет, но ни где, ни когда он закончит свой жизненный путь, Казанове ведомо не было. А родился он в прекрасном городе Венеция, чьи каналы рассекают гондолы, на карнавалы которой собираются гости со всего мира, где светит ласковое средиземноморское солнышко и никогда не бывает снега. О, Венеция, сказочный город... Его матерью была актриса Занетти Фарусси, а отцом... Что ж, тут он мог только догадываться. Уж во всяком случае не ее муж, чью фамилию носил Джакомо Джованни, который впервые увидел свет 2 апреля 1725 года. Где он только не был за свою долгую и насыщенную бурными событиями жизнь, кем только не побывал. Юность он провел в Падуе, где учился в школе и университете. Там Джакомо Джованни получил блестящее образование. Он в совершенстве владел латынью, греческим, древнееврейским и французским, несколько хуже – испанским и английским языками. Кроме того, он хорошо знал математику, философию, химию, алхимию, историю, литературу, астрономию, медицину и право, ко всему прочему неплохо играл на скрипке и обладал феноменальной памятью. И все это к 14 годам, когда он закончил свое обучение и вернулся в Венецию. В 16 лет он неожиданно для всех принял духовный сан, был назначен аббатом и приступил к исполнению служебных обязанностей. Уже первая его проповедь принесла ему небывалую популярность в приходе, выразившуюся в более чем десятке записок с приглашениями на свидания. Если начинающий аббат кому и отказал, то истории об этом ничего не известно. Молодой Казанова не был осторожен, и вскоре о его шашнях стало известно буквально всем, включая епископа, который, узнав о невоздержанности своего подчиненного, лишил Джакомо Джованни сана и отчислил из семинарии. Такое развитие событий ничуть не расстроило молодого венецианца, который поступил на службу в армию родной республики Святого Марка, которая в то время находилась в состоянии перманентной войны с Оттоманской империей. При этом он умудрился стать офицером, на что никаких прав не имел. Однако венецианское «сарафанное радио» убедило всех, что он служил в испанской армии, ряды которой покинул из-за дуэли, что и помогло Казанове получить чин. Развлечения офицерского корпуса той эпохи практически ничем не отличались от современных: женщины, кутежи и карты. Насколько удачлив был свежеиспеченный офицер в отношениях с противоположным полом, настолько же ему не везло в игре: он проиграл все, что мог, и даже сверх того. Он уже был на той грани, когда порядочные люди, неспособные расплатиться с долгами, стреляются, но, собравшись с силами, занял денег и отыгрался, оставив сослуживцев с пустыми кошельками. Видимо, обыграл он и кого-то из высокопоставленных офицеров, поскольку ему уже подходил срок на повышение по службе, однако при распределении вакансий его обошли. Казанова обиделся и подал в отставку. Поначалу он хотел стать адвокатом, однако не смог своевременно выйти из того ритма жизни, к которому привык за время службы, и очень быстро остался без денег, истратив все свои «трофеи» на кабаки и куртизанок. Чтобы хоть как-то жить, он устроился музыкантом в театре. Платили там мало – всего-то по цехину в день, однако компания подобралась веселая. Оркестранты, которые были не дураки заложить за воротник, развлекались как могли: отвязывали по ночам гондолы, которые отливом уносило в открытое море, будили врачей и посылали их к несуществующим «богатым клиентам». В общем, жили бедно, но весело. Конечно, доблестная венецианская стража, которую жалобами на их выходки просто завалили, пыталась за ними охотиться, но за мелкое хулиганство сотрудникам правоохранительных органов легче было надавать хороших тумаков, чем заводить уголовное дело, а эта неблагодарная обязанность лежала на простой страже, которая могла застать хулиганов на месте преступления, чего музыканты им сделать не давали, но не имела возможности провести дознание в силу отсутствия специалистов нужного профиля. Впрочем, этот бесшабашный период жизни Джакомо Джованни Казановы скоро миновал. Возвращаясь поздно вечером домой, он увидел, как престарелый сенатор Маттео Брагодин, садящийся в свою гондолу, обронил письмо. Казанова поднял его и вернул сенатору, за что получил приглашение сесть в гондолу. Видимо, Брагодину чем-то приглянулся расторопный молодой человек, и он решил взять его себе в услужение, однако ни он, ни Джованни не могли даже и предполагать, чем для них закончится эта поездка. По дороге Брагодин почувствовал себя плохо: у старика начало отказывать сердце. Казанова оказал ему первую помощь, чем спас жизнь сенатора, а по прибытии того домой заявил, что он сам медик (что было истинной правдой) и вылечит сеньора Маттео «без помощи всяких там коновалов, которые только и умеют что делать кровопускания пациентам и их кошелькам». И надо заметить, слово свое сдержал. Уже через неделю Брагодин был свеж как огурчик и преисполнен к своему нечаянному спасителю самой живейшей благодарности, проявившейся в акте, которым престарелый, но бездетный аристократ усыновлял «поименованного Джакомо Джованни Казанову, со всеми теми правами, как если бы он был моим природным сыном». Положение сына сенатора республики Святого Марка было, пожалуй, самым высоким, какого только можно было добиться в Венеции, не став сенатором или дожем самому, и позволяло вести вполне беззаботную жизнь. В своих мемуарах Казанова так вспоминал эти дни: «Я был не беден, одарен приятной и внушительной внешностью, отчаянный игрок, расточитель, краснобай и забияка, не трус, ярый ухаживатель за женщинами, ловкий устранитель соперников, веселый компаньон, но только в такой компании, которая меня развлекала. Само собой, что я наживал себе врагов и ненавистников на каждом шагу; но я отлично умел постоять за себя и потому думал, что могу позволить себе все, что мне угодно».
А золотая молодежь веселилась на славу. Кутежи, оргии, дуэли и карты, карты, карты... Однако Казанова меры не знал. В 1747 году он развлекался с приятелями в Падуе. В их компании было принято подшучивать друг над другом, причем шутки порой были достаточно жестокими, однако жертва чужого юмора должна была веселиться наравне со всеми. Провалившись в тину и едва не захлебнувшись, Джакомо Джованни был далек от мысли, что это смешно, однако, сделав хорошую мину при плохой игре, он твердо решил отшутиться, что в итоге окончилось печально для всех. Раскопав могилу недавно скончавшегося крестьянина, Казанова отрубил ему руку, после чего пробрался в спальню обидчика и с помощью этой конечности потянул со спящего одеяло. Тот схватился за руку, предполагая, что ему удалось сцапать того, кто над ним подшучивает, однако увидал лишь конечность покойника. От пережитого ужаса он тут же сошел с ума. Подозрение сразу пало на Казанову, которому инкриминировали не только сам этот эпизод, но и осквернение могилы. Вернувшегося в Венецию Джакомо Джованни уже поджидал ордер на арест. В тот раз ему удалось бежать. Он разъезжал по городам Северной Италии, проводя время в амурных приключениях, карточных играх, ссорах и дуэлях. Только об этом периоде его жизни можно написать не один авантюрный роман. Наконец, Брагодину удалось замять дело с отрубленной рукой, и Казанова смог вернуться в Венецию. Там он зажил вполне спокойной и размеренной жизнью, ежедневно ходил в церковь, посвящая все свободное время чтению и философским беседам. Казалось, что он отгулял свое и теперь полностью остепенился. Ничуть не бывало. В 1750 году он выиграл в лотерею 3 тыс. дукатов и решил посетить Париж. Здесь он выдавал себя за каббалиста, был принят при дворе, вступил в масонскую ложу и провернул несколько блестящих авантюр, изрядно отяжеливших его карман. Вернувшись в Венецию, Казанова вновь пустился во все тяжкие, периодически проигрываясь в пух и прах, а порой выигрывая целые состояния. Но деньги не удерживались у него в руках, просачиваясь между пальцев золотым дождем. Он вновь садился за карточный стол и вновь проигрывался. Впрочем, нельзя сказать, что он только бесцельно прожигал жизнь. В 1752 году Дрезденским королевским театром было поставлено три его пьесы. Три пьесы за год – в королевском театре! И две из них имели шумный успех, а вот третья с треском провалилась. Отложив перо, Казанова вновь взял в руки карты. Так продолжалось до 1755 года, когда Джакомо Джованни был арестован по обвинению в колдовстве (справедливом) и заключен в знаменитую своими свинцовыми крышами тюрьму Пьомби, которая располагалась во Дворце дожей, откуда еще никому не удавалось бежать. Казанова сделал невозможное: пробыв в заключении 15 месяцев, он совершил дерзкий побег. В соседней камере, куда ему разрешали выходить, он нашел массивную задвижку, которую немедленно умыкнул и спрятал в своей камере (он сидел в одиночке). Конец задвижки он обточил таким образом, что получилось восьмигранное долото, которым он начал долбить отверстие в полу собственной камеры, расположенной прямо над залом заседаний. Не в центре комнаты, естественно, а под кроватью. Три недели спустя, когда трехслойный деревянный настил сдался, Казанову ждало жестокое разочарование. Под настилом оказалась сплошная каменная кладка, на которой ничего глубже царапины его импровизированное долото не оставляло. Вот тут-то и сказалось преимущество хорошего образования. На память Казанове пришли строки Тита Ливия, который, описывая переход армии Ганнибала Барки через Альпы, упоминал, что карфагеняне разбивали скалы топорами, смоченными уксусом. Уксус достать было нетрудно. «Аристократические» тюрьмы – такие, как Бастилия и Пьомби, – какие бы ужасы не писали про них романисты, были местами довольно уютными, где заключенные, в пределах разумного, естественно, содержались во вполне комфортных условиях и не имели недостатка в разных пустяках. Ну а что такое уксус? Так, пустячок. Тем более что заключенный Казанова умеет и любит готовить. Уксус размягчил мрамор. Джакомо Джованни одолел и это препятствие. Оставалось разрушить только нижний досчатый слой. Казанова аккуратно пробурил в нем дырочку и, убедившись, что под ним действительно находится зал заседаний, внутренне возликовал. Оказалось, что преждевременно. Сначала ему в камеру подселили соседа, который вполне мог оказаться и провокатором. Того, правда, выпустили довольно скоро, но самому Казанове улучшили «жилищные условия», переведя в более просторную и удобную камеру. Многодневный труд пошел насмарку. Ну а потом тюремщик обнаружил в старой камере Казановы его лаз и явился к заключенному с требованием отдать топор и прочие инструменты, посредством которых Джакомо Джованни проделал отверстие в казенном полу. Тот сделал вид, что совершенно ни при чем и знать не знает ни о каком отверстии. Тем более что инструментов у него и не было, и отдать он ничего не мог. Ну не считать же дверную задвижку строительным инструментом? У него в камере устроили обыск и ничего не нашли. Тюремщики были в недоумении. Тогда Казанова выразился в том духе, что если бы и готовил побег, то взять инструменты для него, иначе чем посредством тюремщиков, ему было бы негде, после чего служаки враз умерили свое рвение. Правда, они начали постоянно осматривать камеру Казановы, подвергая проверке каждый дюйм стен и пола... но не потолка! У Джакомо Джованни родился новый план. К этому времени он довольно плотно сошелся с другим заключенным Пьомби, Марино Бальби, священником. Они обменивались друг с другом книгами, а заодно, пользуясь неграмотностью тюремщиков, и записками. В связи с тем что за Казановой пристально наблюдали, он договорился со святым отцом о передаче долота ему. Тот должен был продолбить потолок своей камеры, что даст ему выход в камеру, соседствующую с камерой Казановы, затем расковырять стену между камерами, а после этого, пока Казанову выводят на прогулку, долбить потолок камеры Джакомо Джованни. Монах согласился, но тут встал вопрос: а как, собственно, переправить долото в камеру Бальби? Эту задачу Казанова также решил с блеском. Поначалу он заказал Библию очень крупного формата, которую якобы собирался подарить падре Бальби в качестве благодарности за заботу о его бессмертной душе, а на деле просто планируя спрятать в переплете свой инструмент. Книга была Казанове доставлена, однако даже и она оказалась мала – оба конца задвижки торчали из переплета. И тут Джакомо Джованни сыграл на своей любви к кулинарии. Заявив тюремщикам, что одной святостью жив не будешь, и подведя под свою идею сложное философское обоснование, он потребовал еще и огромное блюдо с макаронами, которые лично заправил маслом и сыром. Завернув долото в бумагу, он вставил его в переплет, раскрыл Библию, установил на нее блюдо и послал надзирателя к Бальби, наказав вручить подарок именно в таком виде и непременно со словами: «Вкусите благ земных и благ небесных». Неизвестно, насколько святому отцу понравились макароны, но вот долотом он начал пользоваться более чем продуктивно. Для того чтобы прикрыть следы подготовки к побегу, он накупил картин, которыми завесил все стены и потолок. Тюремщики, вероятно, покрутили пальцем у виска, но под подозрение Бальби не попал. 31 октября 1756 года Джакомо Джованни Казанова и Марино Бальби совершили первый в истории Венеции побег из тюрьмы Пьомби. И снова Казанова оказался во Франции. Париж встретил его как героя, его принимали в лучших домах, а для короля он даже организовал государственную лотерею, которая принесла казне полтора миллиона ливров, а самому Казанове – 300 тыс. Ко всему прочему он продолжал выдавать себя за знатока оккультных наук, что приносило немалый доход. Так, например, он долго получал гонорары с маркизы д’ Юфре, мечтавшей омолодиться. Несмотря на то что женщина щедро платила ему, он постоянно откладывал сеанс омоложения, а затем заявил, что, когда ей исполнится 63 года, у нее родится сын, она умрет, а потом воскреснет молодой девушкой. Самое смешное, что маркиза поверила. Тогда же Казанову завербовала французская разведка. Еще в Венеции он свел дружбу с французским посланником аббатом Берни, графом Лионским, который в 1757 году стал министром иностранных дел Франции. Тот попросил Казанову, на которого, по всей видимости, возлагал определенные надежды, посетить его. «Мсье де Берни принял меня как обычно, то есть не как министр, а как друг. Он поинтересовался, не соглашусь ли я выполнить несколько секретных поручений», – записал Казанова в своих мемуарах. Он согласился работать на Францию, но прежде ему устроили проверку на профессиональную пригодность. Казанова получил задание отправиться в порт Дюнкерк, где на рейде стояла французская эскадра, о боеспособности которой, а равно о состоянии кораблей, их вооружении и офицерском составе он должен был составить отчет. Одновременно это был и тест для контрразведчиков, который они успешно провалили. Сам Казанова в своих мемуарах описал это задание так: «Уже через три дня я снял номер в гостинице в Дюнкерке... Тамошний банкир, как только прочитал письмо из Франции, тут же выдал мне сто луидоров и попросил подождать его вечером в гостинице, чтобы представить меня здешнему командиру эскадры, мсье де Барею. После обычных расспросов командир, как и любой француз на высокой должности, пригласил меня поужинать с ним и его супругой, еще не вернувшейся из театра. Она отнеслась ко мне так же дружелюбно, как и ее муж, и поскольку я держался подальше от игорного стола, то очень скоро перезнакомился со всеми армейскими и морскими офицерами. Так как я говорил преимущественно о военно-морских флотах европейских стран, выдавая себя за большого знатока по этой части, а в свое время я действительно служил на флоте моей Республики, то через три дня я уже не только был лично знаком с капитанами боевых кораблей, но и подружился с ними. На четвертый день один из капитанов пригласил меня отобедать на борту своего судна. Этого было достаточно, чтобы я тотчас же получил приглашение от всех остальных то ли на завтрак, то ли просто так закусить. И каждый, кто оказал мне такую честь, на весь день становился моим гидом. Я же проявлял интерес решительно ко всему, изучал каждый корабль вдоль и поперек... Выполнив свое задание, я простился со всеми и в почтовой карете отбыл обратно в Париж, для разнообразия выбрал иной маршрут, чем по пути в Дюнкерк... Прибыв на место, я тут же отправился со своим донесением министру в Пале-де-Бурбон... Через месяц я получил пятьсот луидоров и не без радости узнал, что военно-морской министр, мсье де Кремиль, нашел мой отчет не только тщательно составленным, но и достаточно содержательным. Тем не менее различные вполне обоснованные соображения не дали мне в полной мере насладиться признанием моих заслуг, которое мой покровитель искренно хотел мне выразить. И все потому, что это поручение влетело военно-морскому министерству в двенадцать тысяч ливров...» О том, какие поручения давала ему французская корона в дальнейшем, Казанова, как и полагается профессиональному разведчику, в своих мемуарах умолчал: сроки еще не вышли и он мог бы неосторожным упоминанием провалить французскую агентурную сеть, чего такой профессионал допустить не желал. Французские архивы не сохранили упоминаний о деятельности Казановы, так что нам никогда не узнать, как многого он достиг на этом поприще. Доподлинно известно лишь о том, что он часто переезжал из одной европейской державы в другую и почти каждую покидал с полицией «на хвосте». Казанова пробовал свои силы на многих поприщах. В Голландии он выгодно продал обесценившиеся французские ценные бумаги, затем открыл во Франции мастерскую по окрашиванию шелковых тканей, которая поначалу приносила ему хорошие прибыли. Однако, в связи с тем что дела предприятия интересовали его гораздо меньше, чем хорошенькие красильщицы, дело в 1760 году прогорело, а сам Казанова сел в долговую тюрьму. Правда, влиятельные знакомые помогли ему освободиться, но Францию пора было покидать. Тем более что и маркиза д’ Юфре начала что-то подозревать... Казанова пустился в странствия. Сначала он побывал в Кёльне и Бонне, затем переехал в Штутгарт, откуда ему пришлось уносить ноги в спешном порядке. Опять из-за долгов. Однажды он познакомился на улице Штутгарта с тремя офицерами. Знакомство было предложено обмыть в ближайшем кабаке, что и было исполнено. Во время дружеской попойки бравые офицеры подсыпали Казанове в вино какой-то наркотик и склонили к игре в карты. Будучи практически в невменяемом состоянии, Джакомо Джованни проиграл просто астрономическую сумму денег. Наутро, придя в себя, Казанова заявил, что платить ничего не собирается. Офицеры подали на него в суд, который принял сторону местных. Дело «запахло жареным», и Казанова пустился в бега. Из Штутгарта он отправился в Швейцарию, где чуть не стал монахом, завел новую авантюрную интрижку, вел философские беседы с Вольтером и Руссо – в общем, жил, как всегда, насыщенной и интересной жизнью. Затем Казанова отправился в герцогство Савойское, где уморил престарелую монахиню. Не со зла, а так, по неосторожности. Дело в том, что одна его знакомая монахиня обратилась к Казанове с просьбой посодействовать с проведением аборта. Джакомо Джованни согласился, но ситуация осложнялась тем, что при монахине неотлучно находилась ее престарелая наставница. Уж как старая фурия умудрилась проморгать шашни своей подопечной, приведшие к незапланированной беременности, неизвестно, но впоследствии она держала ее на коротком поводке. Дабы старушка ничего не заподозрила, ее усыпили посредством опиума. Операция по прерыванию беременности прошла успешно, но вот беда – старушка просыпаться отказывалась. Сердце пожилой женщины не выдержало наркотических перегрузок и перестало биться. Старую монахиню похоронили со всеми почестями, молодую отправили обратно в монастырь, а Казанова спешно отбыл в Гренобль. Последующие несколько лет он провел, путешествуя под именем шевалье де Сенгальта (имя и титул он себе присвоил без какого-либо основания) по городам Италии и юга Франции. Все это время он вел привычный образ жизни, что заканчивалось все теми же последствиями. Из Флоренции его выслали за отказ уплатить деньги по подложному документу, из Рима, где он просил папу посодействовать его амнистии в Венеции, его выпроводили вежливо, но непреклонно... Наконец он в 1762 году вернулся в Париж, где его давно уже ждала престарелая маркиза Дюрфэ, которой он давно обещал провести каббалистическую операцию по перерождению сей знатной дамы в мужчину. Старушка-маркиза принесла жертвоприношение в виде шкатулки с золотом и драгоценными камнями, которую на ее глазах Казанова бросил в море с высокого обрыва. Правда, содержимое шкатулки самозваный шевалье де Сенгальт благополучно успел заменить обычными камнями. «Не я, так кто-то другой ее одурачит. Так что лучше пусть верит в свое бессмертие, иначе из счастливейшей я сделаю ее несчастнейшей», – сказал он по этому поводу. После окончания магической процедуры Казанова заявил мадам Дюрфэ, что заклинание прошло успешно, теперь она доживет до 65 лет (маркизе оставалось до этого знаменательного момента всего ничего), умрет и возродится в ребенке, которого он на днях зачнет с девственницей из знатного рода. После чего прихватил сокровища обманутой старушки и отбыл в Англию. Его представили самому королю Георгу III, и Казанова стал вести светскую жизнь, но в столице туманного Альбиона дурную шутку сыграли уже с ним. В Лондоне Казанова влюбился. Влюбился страстно, беззаветно и, увы, безответно. Объектом его страсти стала молоденькая куртизанка Шарпильон, которая изводила его, беспрестанно вытягивая деньги и отказывая в ласках. Наконец он застукал ее с другим. «В тот роковой день в начале сентября 1763 года я начал умирать и перестал жить. Мне было тридцать восемь лет», – записал он в своих мемуарах. Шарпильон вытянула из него все соки, он был практически нищим, к тому же другой авантюрист, Генау, подсунул венецианцу подложный вексель на 520 фунтов, а его спутница наградила Казанову венерической болезнью. Ему грозила виселица, и в марте 1764 года он бежал из Англии в Россию. По дороге он, правда, посетил двор Фридриха Великого. Прусский монарх сам был превосходным знатоком человеческих душ, и Казанова не смог произвести на него того впечатления, на которое рассчитывал. Он импровизировал, хитрил, изворачивался, рассуждая и о высоких материях, и о делах сугубо земных. Казанова становился то специалистом по гидравлике, то знатоком паркового устройства, то финансистом, а то и военным. И чем меньше он знал об обсуждаемом предмете, тем большего авторитета в данном вопросе добивался. И все это почти напрасно. Он смог добыть кое-какие деньги, но теплого местечка при дворе не получил. Что ж, он не особо на него и рассчитывал, а посему без видимого расстройства покинул Берлин и направился в столицу Российской империи. Казанова прибыл в Санкт-Петербург в декабре 1764 года, имея некоторое количество денег и рекомендательное письмо от Бирона, герцога Курляндии. То, как он его получил, заслуживает содержания целой книги. Это была, пожалуй, самая наглая и успешная авантюра в жизни Казановы. Случилось это так. Проезжая через Митаву, Казанова, по обыкновению, направился засвидетельствовать свое почтение местному правителю, коим являлся бывший фаворит Анны Иоанновны. При встрече с Казановой он заговорил о природных богатствах своего владения. Венецианец с жаром подхватил тему, изображая большого знатока вопроса. Интуиция ему подсказала, что здесь найдется, чем поживиться. Бирон, которому было 74 года, предложил Казанове произвести инженерную разведку, на что тот охотно согласился. На полевые изыскания он взял слугу Ламберто, умевшего чертить. Куда там Остапу Марии ибн Бендер-бею с его незамысловатыми трюками! Казанова сам удивлялся своим «познаниям» в топографии, геологии, ландшафтоведении, ирригации, мелиорации и прочих геодезических науках. Отчет о проведенных изысканиях был, пожалуй, самой убедительной липой за всю историю существования человечества. За «работу» Бирон дал авантюристу 200 дукатов, карету до Риги и рекомендательное письмо. В Санкт-Петербурге Казанова снял дом на Миллионной и ринулся покорять Северную Пальмиру. Целью его была ни много ни мало сама Екатерина II. В первый же день своего пребывания в граде Петра он направился на бал-маскарад в императорском дворце. Государыню он увидел, но приблизиться к ней не решился. За ней тенью следовал граф Орлов, а вступать с ним в открытую конфронтацию вот так, сразу, он готов не был. Сама же императрица внимания на него не обратила. Казанова приступил к долгой и изнурительной борьбе. Он смог пробиться на прием к княгине Екатерине Дашковой, возглавлявшей Академию наук, которая дала ему рекомендательное письмо к приближенному императрицы графу Панину, но обольстить Дашкову Казанове не удалось.
Уязвленный в самых лучших чувствах, этот всеевропейский ловелас заметил: «Кажется, Россия – единственная страна, где полы перепутались. Женщины управляют, председательствуют в ученых обществах, участвуют в администрации и дипломатических делах. Недостает у них одной привилегии – командовать войсками!». Казанова ширил и множил свои связи и знакомства. Особенно полезен ему оказался родственник Орловых, гвардии ротмистр Зиновьев. До императрицы оставалось каких-то два шага. Зиновьев же помог устроить Казанове и личную жизнь, продав девушку 13 лет из своих крепостных. Звали девушку Зинаидой, и была она редкой красавицей. Гвардеец содрал за нее с Казановы 100 рублей. При этом Зиновьев сказал: – Она будет вам служить, и вы будете вольны спать с ней. – А ежели она не захочет? – резонно поинтересовался венецианец, для которого крепостное право было чем-то жутким из средневековой истории Европы. – А! Так не бывает. Вы барин – велите ее высечь. – А какое жалованье ей положить? – Ни гроша. Кормите, поите, отпускайте в баню по субботам и в церковь по воскресеньям. Ошарашенный Казанова вступил во владение, назвав девушку Заирой, в честь героини популярной тогда пьесы Вольтера. Заира была совсем не глупа, без ума любила Джакомо Джованни и страшно его ревновала. При этом своей ревностью довела галантного венецианца до того, что он начал ее колотить. «Не удивляйтесь, – писал Казанова в своей автобиографии, – это было лучшее средство доказать ей, что я ее люблю. Таков нрав русских женщин. После побоев она становилась нежной и любящей, и между нами устанавливалось доброе согласие». Впрочем, и он в свою очередь очень привязался к русской крестьянке. «Если бы не проклятая ее неотступная ревность да не слепая вера в гадание на картах, кои она всякий день раскладывала, я бы никогда с ней не расстался». Но он ни на минуту не забывал о том, для чего приехал в Санкт-Петербург. Екатерина Великая знала о его пребывании в столице, ей постоянно докладывали о его похождениях, она с интересом слушала все, что рассказывали о Казанове, но желания встретиться лично не изъявляла. Тогда Казанова решил устроить себе небольшой перерыв и отбыл с Заирой, незадолго до этого едва не убившей его бутылкой, которую в приступе ревности она запустила ему в голову, в Москву. Город покорил и очаровал Казанову, а гостеприимство москвичей вообще было превыше его понимания. «Москва – единственный город в мире, – писал он, – где богатые люди действительно держат открытый стол, и не нужно быть приглашенным, чтобы попасть в дом. В Москве целый день готовят пищу...» Москвички его тоже очаровали. «Особенно любезны московские дамы: они ввели обычай, который следовало бы распространить и на другие страны, – достаточно поцеловать им руку, чтобы они поцеловали вас в щеку». Впрочем, памятуя про случай с бутылкой, Казанова интрижку в Первопрестольной завести не рискнул. Вернувшись в Санкт-Петербург, Казанова решил привлечь внимание государыни новым способом. Он везде носился с разнообразными идеями общественного переустройства России. Екатерине II докладывали о прожектах итальянца, но та на них никак не реагировала. Попытки друзей Казановы устроить ему аудиенцию у императрицы терпели полное фиаско. Наконец графу Панину, возможно с ведома самой государыни, удалось устроить Казанове «случайную» встречу с императрицей в Летнем саду. Екатерина, прогуливавшаяся в обществе Панина, Орлова и двух статс-дам, сама заговорила с венецианцем. Она поинтересовалась его мнением о выставленных в саду скульптурах. Казанова дал им самую негативную оценку. Екатерина с ним согласилась. Завязалась беседа, в которой Джакомо Джованни во всю мочь блистал красноречием и остроумием. Казалось, он начал добиваться успеха, но тут к беседующим подошел приближенный императрицы Бецкой, и она переключила на старика все свое внимание. О Казанове, казалось, забыли. Но через несколько дней Панин сообщил Казанове, что государыня за прошедшие дни уже дважды осведомлялась о нем. А вскоре состоялась новая встреча великой императрицы и великого авантюриста. Произошла она все в том же Летнем саду. И вновь Екатерина сама подошла к Казанове. Они, казалось, болтали ни о чем и обо всем. О погоде, Венеции, карусели на Дворцовой площади, летоисчислении... Но на деле шла жесткая борьба двух личностей, каждая из которых желала овладеть другой, подчинить ее себе. Казанова был красноречив и остроумен как никогда, он яростно доказывал преимущество григорианского календаря перед бытовавшим в России юлианским, темпераментно жестикулировал, играл голосом, томно вздыхал... А Екатерина слушала его и улыбалась. И вновь ему помешали так некстати подошедшие фрейлины. Десяток дней спустя они вновь встретились в саду. Императрица, казалось, поджидала заморского гостя. Но лишь затем, чтобы блеснуть своей эрудицией в летоисчислении. Дожидаясь Екатерину II в следующий раз, Казанова попал под дождь и сильно вымок. Дежурный офицер пригласил его в павильон, где, как оказалось, его уже дожидалась императрица. Она ворковала о геральдике, нравах венецианцев, лотерее... А жалкий и промокший Казанова вдруг с неожиданной ясностью понял, что эта удивительная женщина видит его насквозь, что все его хитрости и уловки для нее – раскрытая книга. Делать в России ему было больше нечего. Он уступил Заиру 70-летнему архитектору Ринальди, закатил друзьям отвальную пирушку и отбыл из России. В Варшаве он нарвался на дуэль с графом Браницким, выиграл ее и был вынужден спешно уносить ноги. Затем были Дрезден и Вена, откуда его «попросили» местные органы внутренних дел. Он поехал в Париж, но его выдворили и оттуда. Он долго скитался по всей Западной Европе, нигде не останавливаясь надолго. В 1774 году, промотав практически все, что мог, Казанова вернулся на родину. Молодость и силы утекали как песок сквозь пальцы. Ему нужно было на что-то жить, и вот в 1776 году Казанова стал специальным тайным агентом суда инквизиции. А с 1780 года, в 55 лет, он стал платным шпионом той самой инквизиции, которая когда-то приказала заточить в Пьомби. Он работал на святых отцов за 15 дукатов в месяц. Его задачей было доносить инквизиции о проступках против «религии и добрых нравов». Он доносил на частоту разводов, на упражнения пальцев молодых людей в темных ложах театров, на обнаженные модели художественных школ. Он сдавал инквизиторам своих друзей, которые читали Вольтера или Руссо, Шаррона, Пиррона или Баффо, Ламетри или Гельвеция. Его оперативным псевдонимом было имя Антонио Пратолини. Но в 1781 году он потерял и эту службу. Но не потому, что плохо работал. Просто Казанова, никогда не оставлявший пера, написал ряд острых политических памфлетов, которые с руководством не согласовал. В результате из инквизиции его уволили. И вот, лишенный всяких средств к существованию, он пишет своим бывшим патронам униженное письмо. «Полный смущения, скорби и раскаянья, я сознаю, что абсолютно недостоин составлять своей продажной рукой письмо Вашему превосходительству, и сознаю, что при всех обстоятельствах я упустил свой долг, но все же я, Джакомо Казанова, взываю на коленях к милости моих князей, я умоляю из сострадания и милости предоставить мне то, в чем не может отказать справедливость и превосходство. Я умоляю о княжеской щедрости, что придет мне на помощь, чтобы я мог существовать и крепко посвятить себя в будущем службе, в которую я введен. По этой почтительнейшей просьбе мудрость Вашего превосходительства может судить, каково расположение моего духа и каковы мои намерения». Благодаря этому письму он получил еще одно месячное жалованье. Но оставаться в республике Святого Марка ему не рекомендовали, и, в январе 1783 года он отправился в Вену, где стал секретарем венецианского посла Фоскарини. Он снова ходил на балы и праздники, в хорошее общество. В 60 лет он танцевал, как юноша, и совсем уже было собрался жениться на молодой девушке. Но тут Фоскарини умер. Казанова опять остался без средств. Однако судьба снова оказалась к Казанове благосклонна: о его бедственном положении узнал молодой и очень богатый граф Вальдштайн. Граф сочувствовал Казанове и предложил ему пост библиотекаря в своем замке Дукс, с тысячей гульденов жалованья в год, коляской и обслуживанием. Казанова согласился. Там он прожил последние свои годы: тихо и спокойно. Там он написал мемуары, которыми зачитываются во всем мире по сей день. Там 4 июня 1789 года закончилось его мирское существование. Человек умер, но легенда о нем, о великом любовнике и проходимце, жива до сих пор, вытеснив из сознания людей образ настоящего человека: немного игрока, немного мистика, немного ученого, немного литератора и большого любителя женщин. Вольфганг Амадей МоцартНаходясь на вершине славы, получая весьма значительные гонорары за свои произведения, будучи придворным композитором австро-венгерского императора Иосифа, Моцарт постоянно одалживал у друзей деньги. Получив за выступление на концерте тысячу гульденов (сумму баснословную!), он уже через две недели сидел без денег. Однажды он зашел по этому поводу к одному из своих приятелей-аристократов. Тот деньги дал, но с удивлением заметил: – Вольфганг, друг мой, ты меня поражаешь. Тебе не надо содержать огромный дом и платить жалованье множеству слуг, у тебя нет конюшни, ты не завел ораву детей, да и любовницы, которая тянула бы из тебя гульдены, насколько я знаю, тоже нет... Куда же ты деваешь деньги, мой дорогой? – Да, но у меня же есть жена! – ответил Моцарт. – Констанция вполне способна заменить и огромный дом со слугами, и табун породистых лошадей, и кучу детишек, и любовницу. Эта история, ставшая со временем историческим анекдотом, как это ни удивительно, действительно имела место. Талантливый композитор, чьи произведения пользовались неизменным спросом, чьи гонорары в то время были одними из самых крупных во всей Европе, оставил после своей смерти огромный долг. 27 января 1756 года Мария Анна Моцарт, урожденная Пертль, супруга Леопольда Моцарта, скрипача в придворном оркестре архиепископа Зальцбургского, благополучно разрешилась от бремени мальчиком, при крещении получившем имя Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил. Мария Анна родила супругу семерых детей, но выжили из них только двое: Иоганн и его старшая сестра, которую в честь матери назвали Марией Анной. Оба ребенка обладали великолепными музыкальными способностями. Дочери Леопольд Моцарт начал преподавать игру на клавесине, когда ей едва исполнилось 8 лет, а его сын уже в 3 года подбирал на этом инструменте терции и сексты, а в 5 лет сочинял несложные менуэты. В 1762 году Леопольд Моцарт устроил детям гастроли. Сначала они удивляли своим искусством двор курфюрста Баварии в Мюнхене, затем посетили Линц и Пассау, затем играли в Шёнбруннском дворце (Вена) для австрийских придворных и дважды даже были приняты у императрицы Марии Терезии, после чего дали несколько концертов в австрийском городе Прессбург (ныне Братислава, Словакия). Это путешествие положило начало ряду концертных поездок, которые продолжались в течение 10 лет. Во время этих турне Моцарт побывал практически во всех европейских дворах, добыл славу музыканта и композитора и познакомился со многими замечательными людьми своей эпохи. Кстати, согласно легенде, он встретился с Гёте, которому тогда было 14 лет. Произошло это следующим образом. После представления во Франкфурте в 1763 году подошел к нему один мальчик и сказал примерно следующие слова: – Как тебе удается сочинять музыку? Это, наверное, очень сложно? Мне никогда этому не научиться... – Да нет же! – ответил Моцарт. – Это совсем не сложно! Ты пробовал записывать ноты? Ну, те мелодии, что приходят в голову? – Нет... Да мне вообще-то все больше стихи на ум приходят... Правда это или нет, сказать трудно, однако легенда до сих пор очень популярна. В 1770 году папа римский наградил юного музыканта и композитора, несмотря на малые лета, вполне признанного и знаменитого, орденом Золотой шпоры. Поводом к этому выдающемуся событию послужил случай достаточно курьезный, звучащий как анекдот, но абсолютно правдивый. Раз в год в Ватикане исполнялось грандиозное девятиголосное сочинение Аллегри для двух хоров – «Miserere». Партитура этого произведения хранилась под замком у самого папы. Он не разрешал снимать с нее копии и не показывал посторонним. Однако же Моцарт, единожды услышав «Miserere», смог воспроизвести его ноты по памяти. Он подарил их запись своей сестре, желая сделать ей приятное. Подарок, безусловно, царский. Никто более, кроме папы Климента XIV, не смог бы сказать, что у него есть ноты этого произведения. Разведка Его Святейшества донесла об этом моментально, и уже через насколько дней после «похищения» нот папа узнал об этом событии. 8 июля 1770 года Климент XIV дал Моцарту аудиенцию, сравнил нотные записи и, придя к выводу об их полной идентичности, пришел в необыкновенное изумление. Впрочем, папа был человеком, чуждым предрассудков, а посему решил поощрить юное дарование и наградил мальчика орденом. В этом же году Моцарт был принят в члены Болонской филармонической академии. В ней существовало жесткое правило: до достижения 26 лет в академию не принимали. Однако для Моцарта сделали исключение. Женился Моцарт по любви и против воли отца. 4 августа 1782 года в венском кафедральном соборе Святого Стефана он обвенчался с девицей Констанцией Вебер. Мать невесты умудрилась заставить Моцарта подписать очень невыгодный для него брачный контракт, невзирая на многочисленные письма отца (матушка Моцарта к тому времени уже умерла), в которых тот то ругался на чем свет стоит, то умолял сына одуматься. Жена Моцарта была, как и сам композитор, в денежных вопросах абсолютно беспомощна, но он любил ее, и брак их был вполне счастливым. Этот год, год его вступления в брак, ознаменовался еще и подлинным творческим триумфом. Его опера «Похищение из сераля» («Die Entfhrung aus dem Serail»), поставленная в венском «Бургтеатре», принесла ему славу не только в аристократических кругах, где его к тому времени уже и так хорошо знали, но и среди представителей третьего сословия. Моцарт стал по-настоящему популярен, директора театров почти дрались за его произведения, билеты на его концерты были нарасхват и распространялись исключительно по подписке. Вся Вена рукоплескала ему. Летом 1783 года Вольфганг наконец-то решил познакомить родственников с женой, для чего супругам пришлось временно покинуть столицу Австро-Венгрии и съездить в родной для композитора (и страшно им нелюбимый) Зальцбург. Моцарт в связи с этой поездкой написал свою лучшую (и последнюю) мессу до минор, которая впервые была исполнена тогда же в зальцбургской Петерскирхе. Констанция, которая была хорошей оперной певицей, исполняла в ней одну из сольных партий сопрано.
На следующий год Леопольд Моцарт нанес ответный визит, посетив сына и сноху в их большой венской квартире, расположенной близ кафедрального собора. Леопольд так и не смог никогда перебороть свою неприязнь к Констанции, но, увидев, что сын знаменит, состоятелен и счастлив в браке, по крайней мере, стал относиться к ней гораздо терпимее. В то же время началась дружба Моцарта и Йозефа Гайдна, которая была искренней, чистой, не омраченной ни профессиональной завистью, ни иными негативными чувствами. На одном из концертных вечеров, которые Моцарт устраивал в честь приезда отца, Гайдн сказал Леопольду Моцарту: «Ваш сын – величайший композитор из всех, кого я знаю лично или о ком слышал». Излишне упоминать, что при случае Вольфганг не упускал возможности отвесить подобный реверанс Гайдну, чье творчество сильно повлияло на его произведения и на чье творчество влиял он сам. Например, однажды один из завистников Гайдна как-то в разговоре с Моцартом с пренебрежением сказал о музыке Гайдна: – Я бы так никогда не написал. – Я тоже, – ответил Моцарт, – и знаете почему? Потому что ни вам, ни мне никогда не пришли бы в голову эти прелестные мелодии. Гайдн же увлек Моцарта в масоны, быть в числе которых тогда было очень модно. В 1874 году Вольфганг вступил в масонскую ложу. Это событие наложило печать на всю его жизнь. Идеи масонства четко отслеживаются в его позднейших произведениях, особенно в «Волшебной флейте». В мае 1787 года умер Леопольд Моцарт, и с этого момента его сына начали преследовать неудачи. Его антиаристократическая опера «Женитьба Фигаро», разрешение на постановку которой он с трудом получил у цензуры (в то время Бомарше был запрещен к постановке в Австро-Венгрии), и написанный по заказу директора оперной труппы Бондини «Дон Жуан» (для его создания в качестве консультанта привлекался Джакомо Казанова), на ура принятые в Праге, в Вене с треском провалились. Император Иосиф II, правда, пожаловал ему должность придворного композитора и капельмейстера, но жалованье дал для этой должности смешное – 800 гульденов в год. «Это слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что мог бы делать», – записал по этому поводу Моцарт в своем дневнике. Впрочем, Его Величество в музыке разбирался слабо, утверждая, что произведения Моцарта «не во вкусе венцев». Популярность его и впрямь пошла на убыль, количество заказов стало катастрофически уменьшаться, и Моцарт начал делать долги. А жить по средствам ни Вольфганг, ни Констанция не привыкли, да и не умели. Сначала Моцарт одолжил крупную сумму у Михаэля Пухберга, своего знакомого по масонской ложе, затем начал занимать у прочих друзей и знакомых. Однако, несмотря на денежные затруднения, его имя все еще было на слуху, и Моцарт попытался этим воспользоваться. Весной 1789 года он отправился в Берлин, надеясь добиться места при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма II, который, в отличие от Иосифа II, не только хорошо разбирался в музыке, но и сам недурно играл на виолончели. Но попытка поправить свое пошатнувшееся материальное положение оказалась тщетной. Результатом поездки стали только новые долги, которые не смогли покрыть даже гонорары за 6 струнных квартетов, написанных для короля, и 6 клавирных сонат для принцессы Вильгельмины. Доходило до того, что Вольфганг и Констанция не имели денег даже на то, чтобы купить дров и согреть комнаты в зимнюю стужу. 1789 год принес Моцарту сплошные огорчения. После его возвращения из Берлина заболела Констанция, а затем и он сам. В следующем 1790 году умер Иосиф II. На коронацию императора Леопольда, проходившую во Франкфурте, Моцарт, надеясь привлечь внимание к своей персоне, отправился за свой счет, вернее, опять в долг. 15 октября состоялось его выступление с «коронационным» клавирным концертом. Однако ни особого успеха, ни денег оно ему не принесло. Потерпев фиаско во Франкфурте, Моцарт вернулся в Вену, полный самых дурных предчувствий. «Мы больше никогда не увидимся», – грустно говорил он Гайдну, уезжавшему на гастроли в Лондон, куда на следующий год должен был ехать и сам. В 1791 году финансовое положение семьи Моцартов немного и ненадолго выправилось. Вольфгангу заказали новую оперу «Волшебная флейта», которая впоследствии стала одним из самых знаменитых его произведений. Затем из Праги пришел заказ на новую «коронационную» оперу «Милосердие Тита» («La clemenza di Tito»). Но Моцарта снова ждал удар: несмотря на то что впоследствии опера пользовалась огромной популярностью, первая ее постановка провалилась. Моцарт влез в новые долги, а здоровье его все ухудшалось. Композитор был уже совсем болен, когда к нему пришел таинственный незнакомец и заказал реквием. Мистически настроенный Моцарт решил, что к нему явился сам ангел смерти и что реквием он пишет для себя самого, хотя на самом деле это был всего-навсего управляющий графа Вальзегг-Штуппаха, который заказал реквием в память о своей покойной, но от этого не менее любимой супруге. Моцарт работал над реквиемом как проклятый, окончательно истощив свои силы. А его здоровье и так уже было сильно подорвано ревматической лихорадкой, называемой также острым ревматизмом. Констанция, которая в это время лечилась в Бадене, срочно прибыла к мужу. 20 ноября 1791 года Моцарт слег. Спустя несколько дней он окончательно понял, что дни его сочтены, и принял причастие. В ночь с 4 на 5 декабря у него началась горячка, затем бред. Ему казалось, что он играет на литаврах в Dies irae из собственного незаконченного реквиема. Около часа ночи Моцарт умер. На момент смерти он был беден как церковная мышь. Великий композитор был должен всем: портному, аптекарю, булочнику, трубочисту... Не имея средств на сколь-либо достойное погребение, измученная горем и болезнью Констанция была вынуждена устроить своему любимому мужу и одному из самых талантливых композиторов мира весьма скромные похороны. Она заказала самое дешевое отпевание в часовне собора Святого Стефана и похороны в могиле для бедняков. Бедная женщина даже не смогла поставить на могиле памятник, и место захоронения великого композитора вскоре было забыто. Через несколько лет Констанция вновь вышла замуж – ее избранником стал датский дипломат Георг Николаус фон Ниссен – и оплатила все долги Моцарта. Она пережила его на 50 лет. Александр ДюмаВ 1806 году, после долгой болезни, скончался французский генерал Тома-Александр Дюма, оставив безутешную вдову с малолетним сыном Александром на руках. Узнав о смерти отца, 3-летний Александр схватил ружье и полез на чердак, чтобы, как он выразился, «убить Боженьку, который убил папу». Несмотря на анекдотичность, это реальный факт, отраженный во всех биографиях великого писателя и драматурга. Этот поступок также указывает на то, что сын в полной мере унаследовал темперамент своего отца. Вообще говоря, без генерала Александра Дюма не было бы и того человека, который подарил миру «Трех мушкетеров». Именно пример отца, его героическое поведение, его судьба отразились в сыне, настолько сформировали его мировоззрение, что он с потрясающей правдивостью смог создавать своих персонажей, полных мужества, героизма и некоторой беспечности. Генерал Дюма был сыном маркиза Дави де ля Пайетри, отставного полковника и генерального комиссара артиллерии, происходившего из знатной нормандской фамилии Дави. Переселившийся в 1760 году на остров Санто-Доминго, он попытал счастья в качестве плантатора и преуспел в этом занятии. Два года спустя, 27 марта 1762 года, у маркиза родился сын от чернокожей рабыни Сессеты Дюма, которого нарекли Тома-Александр. Маркиз на рабыне, конечно, жениться не стал, но сына признал и дал ему свое имя. Таким образом, внук маркиза де ля Пайетри, известный всему миру как Александр Дюма-отец, был квартероном. Факт этот является малоизвестным в наши дни, однако фактом от этого быть не перестает. Впрочем, сам «отец мушкетеров» (обладатель небесно-голубых глаз и очень светлой кожи), когда его однажды попрекнули африканским происхождением, ответил довольно резко и остроумно: «Мой отец был мулатом, моя бабушка была негритянкой, а мои прапрадеды и прапрабабки были обезьянами. Моя родословная начинается там, где Ваша, сударь, заканчивается!». В 1780 году маркиз де ля Пайетри вернулся в Париж, дабы вновь блистать в свете. Согласно существовавшей тогда традиции, дворяне-плантаторы, возвращаясь в Европу, прижитых в колониях дочерей там и оставляли, а сыновей брали с собой. Взял и маркиз Александра, которому тогда исполнилось 18 лет. Сын его в светском обществе пользовался успехом, особенно у противоположного пола. Он был красив, неглуп, невероятно силен и имел взрывной темперамент (именно он послужил прототипом Портоса, хотя изрядную долю тщеславия, которым Александр Дюма был одарен в гораздо большей степени, чем его отец-генерал, писатель добавил от себя, наделив персонаж своего произведения, ко всему прочему, несколько более ограниченным умом). Так, однажды в ложу оперы, где находился Дюма, зашел мушкетер, позволивший себе оскорбительное высказывание в адрес молодого мулата. Тома-Александр, недолго думая, схватил обидчика и вышвырнул из ложи в партер. На последовавшей затем дуэли он вновь одержал верх над мушкетером. Но очень скоро светская жизнь Тома-Александру наскучила. Кроме того, она требовала крайне высоких расходов, а его отец, который к тому времени доживал восьмой десяток лет (что не помешало ему жениться на собственной экономке, Франсуазе Рету, которая стала вести хозяйство маркиза после смерти Сессеты Дюма в 1772 году), отличался большой прижимистостью и финансировал сына достаточно скудно. Тогда Тома-Александр Дави де ля Пайетри решил поступить на военную службу в гвардейский полк, начав карьеру с простого рядового Ее Величества драгунского гвардейского полка. Узнав об этом, маркиз заявил, что он, как полковник, не может допустить того, чтобы его прославленное имя «трепали среди всякого армейского сброда». Сын, который к тому времени был с отцом в неважных отношениях, ответил, что в таком случае он поступит на службу под фамилией матери. На том и порешили. В полку Александр Дюма быстро прославился. Еще бы! Кто, кроме него, мог зажать лошадь в шенкелях и подтянуться вместе с ней, ухватившись за балку конюшни, или надеть на пальцы руки четыре мушкета и пройтись с ними, неся их на вытянутой руке? Сказать по чести, не только в полку, но и во всей французской армии вряд ли нашелся бы хоть один такой же силач. К тому же он был не только силен, но и образован: он много читал классических авторов – таких, как Цезарь и Плутарх. Было, правда, одно но. Учитывая то, что в полк он записался под простонародной фамилией, ни о каком производстве в офицерский чин и речи быть не могло. В 1789 году, сразу после взятия Бастилии, полк, где служил Дюма, перевели в городок Вилле-Коттре. Таким образом власти надеялись оградить жителей от произвола многочисленных разбойничьих банд, появившихся после революции. Именно здесь Дюма встретил свою любовь. Девушкой, которая покорила сердце солдата, была Мари-Луиза Лабурэ, дочь Клода Лабурэ, состоятельного горожанина, владельца лучшего постоялого двора в городе. Отец ее в принципе против брака не возражал – ну еще бы, он отлично знал о благородном происхождении кандидата в зятья – однако выставил одно условие. Брак должен был состояться, как только Дюма получит звание капрала. Что ж, можно только похвалить почтенного мсье Клода, желавшего отдать дочь в руки настоящего мужчины, всего в жизни добивающегося самолично, а не избалованного барчука. Тем временем революционные события во Франции вылились в гражданскую войну и полк Дюма был направлен на театр военных действий. Тома-Александр, как и большинство полукровок дворянского происхождения, выступил на стороне республиканцев и проявил себя бравым рубакой, о котором вскоре начали ходить легенды, и 16 февраля 1792 года получил заветные капральские нашивки. Казалось бы, что можно возвращаться к невесте и играть свадьбу, но тут его карьера пошла вверх настолько быстро, насколько это вообще возможно в революционные времена. Знаменитый на всю революционную Францию и далеко за ее пределами, шевалье де Сен-Жорж, такой же, как и Дюма, полукровка, пригласил Александра в свой Легион свободных американцев на должность субалтерна. Одновременно не менее известный полковник Буайе предложил ему чин лейтенанта. Узнав об этом, Сен-Жорж решил назначить его капитаном, и Дюма принял его предложение. В Легионе Дюма по-прежнему проявлял чудеса храбрости и героизма, однажды даже пленив в одиночку 30 (!) вражеских солдат. 10 октября 1792 года, восемь месяцев спустя после получения капральских нашивок, Тома-Александру было присвоено звание подполковника, а 28 ноября того же года он наконец вступил в брак с прелестной мадмуазель Лабурэ. Тесть, надо полагать, был счастлив. 30 июля 1793 года Дюма, несшего службу в Северной армии, возвели в генералы; 3 сентября, буквально через месяц, повысили до дивизионного генерала. А 10 сентября у героя революции родилась дочь Александрина-Эме. На какие только должности его не назначали: за короткий срок он успел побывать командующим Пиренейской и Брестской армиями, начальником Марсовой школы, воевал в Вандее и в Альпах, где с небольшим отрядом выбил с горы Мон-Сени австрийцев, численно превосходивших атакующих минимум на порядок. При этом, проводя операцию, генерал Дюма со своими солдатами сначала забрался на отвесный склон, а потом лично перебросил всех своих бойцов через высокий палисад – прямо на головы удивленных австрийцев. Но, несмотря на его героизм, власти республики не любили. Дело в том, что он никогда не прибегал к террору (однажды он даже пустил на дрова гильотину, после чего революционные комиссары люто его возненавидели, дав прозвище Человеколюбец, что во времена потрясений и гражданских войн звучало почти как предатель), к тому же презирал интриги и закулисную возню. В результате его перебрасывали то туда, то сюда, не давая обосноваться где-либо на одном месте и вызвать семью. Наконец Дюма, уже получив звание генерала, подал в отставку. Выйдя на покой, генерал поселился у родителей жены, в Вилле-Коттре, где прожил восемь самых счастливых месяцев в своей жизни. Но спокойная и тихая жизнь была недолгой. В октябре 1795 года в Париже вспыхнул роялистский мятеж, и Конвент призвал генерала спасать республику. Дюма сел в карету и помчался в столицу, однако опоздал на один день: завоевания революции отстояли без него. Артиллерийский генерал Буонапарте встретил мятежников картечью и опрокинул их, а остальные генералы-якобинцы довершили разгром. Итак, республика была спасена, но вернуться домой к жене и дочери генералу не дали. Директория, захватившая власть, чувствовала себя шатко, страна была разорена, да и девать огромную революционную армию было некуда. Распусти их по домам, и получишь грандиозные потрясения и новую революцию, но и содержать такую ораву вояк невозможно... Тогда Франция обратила свой взгляд на итальянские земли. Главнокомандующим итальянской армией был назначен изменивший свою фамилию на французский манер генерал Бонапарт. Поначалу два генерала неплохо сошлись, хотя Дюма, как и многих других офицеров, коробил тот факт, что командует ими 26-летний Наполеон, однако тот довольно быстро завоевал авторитет среди опытных бойцов, тем самым доказав, что не напрасно получил свой пост. Хорошим взаимоотношениям способствовали и протекция Жозефины Богарнэ, креолки с Мартиники, покровительствовавшей всем полукровкам, напоминавшим ей о родине, и то факт, что Бонапарт профессиональной ревности к Дюма не испытывал. И действительно, Тома-Александр не был искусным стратегом, однако солдаты шли за ним в бой с особым воодушевлением, что, собственно, Наполеону, бравшему всю стратегию на себя, и было нужно. Ему требовались не полководцы, а герои, и Дюма как нельзя лучше соответствовал его ожиданиям. Он лично захватил шесть знамен у численно превосходящего противника, умело (с побоями, но без увечий) допросив лазутчика, выяснил планы австрийцев, перекрыл дорогу отступающей армии генерала Вурмзера, вступил с ней в бой и остановил продвижение австрийцев до подхода основных сил французской армии (в этом сражении он опять был в гуще событий и оказался вынужден менять коней дважды в связи с трагической гибелью ни в чем не повинных лошадок от австрийских пуль), что привело к капитуляции армии Вурмзера под Мантуей. А знаменитая стычка под Клаузеном сделала его человеком-легендой. Звучит совершенно невероятно, но в этом бою генерал Дюма в одиночку удерживал Бриксенский мост против целого эскадрона, в решительный момент остановив вражеское наступление. Солдаты его боготворили, а австрийцев от одного известия о приближении «черного дьявола», как они прозвали Дюма, прошибал холодный пот. В 1797 году, после окончания Итальянской кампании, Дюма дали отпуск, и он вновь вернулся к жене. И снова ненадолго. Бонапарт решил выступить в Египет и вызвал генерала к себе. В апреле 1798 года он назначил Дюма командовать кавалерией в своей Восточной армии. В Египетской кампании Дюма проявил тот же героизм, что и во всех остальных. Его кавалерия отбросила мамелюков к Нилу, он подавил восстание в Каире и, захватив на два миллиона добычи, отослал все до единого су Наполеону. Из-за этой кампании, ненужной Франции, но необходимой Наполеону, он в прах рассорился с будущим императором, на чьи честолюбивые замыслы ему было глубоко наплевать, и подал прошение об отставке, которое было удовлетворено Бонапартом, взбешенным непокорностью и независимостью Дюма. Тома-Александр отправился домой на зафрахтованном им за свой счет судне. Высадившись в Таренте, он ждал, что жители Партенопейской республики, основанной еще на заре республики французской, примут его с почетом, однако был жестоко разочарован. За время его отсутствия англичанам удалось вернуть власть Бурбонов в этой стране, и республика прекратила свое существование, вновь став Неаполитанским королевством. Дюма был арестован и заключен в тюрьму города Бриндизи. Относились к нему, конечно, как и подобает относиться к особе высокого ранга, каковой является генерал. То есть никаких сырых застенков: все культурно, содержание и стол... а также некоторое количество мышьяка в еде. 5 апреля 1801 года генерала Дюма обменяли на знаменитого австрийского генерала Мака (вернее, единственного хоть чего-то стоящего генерала). Из заключения вышел уже совсем иной человек. О своем состоянии он писал: «...я почти оглох, ослеп на один глаз, и меня разбил паралич... Эти симптомы появились у меня в тридцать три года и девять месяцев...». Это еще не говоря о язве желудка. 1 мая он прибыл домой. У него не было за душой ни сантима, жалованье за последние два года он не получил, да к тому же Наполеон отправил его в запас. Он писал в военное ведомство, Наполеону, в Генштаб – тщетно. Ему остались только жалкая пенсия да подорванное здоровье. Радовало только то, что 24 июля 1802 года у него родился сын Александр, в котором генерал души не чаял. Не все, конечно, забыли и бросили генерала Дюма. Так, Мюрат, который хотя и приходился Бонапарту шурином, не обращал внимания на мстительность своего родственника и вел себя вполне независимо, пытался помогать Дюма по мере сил. Генерал Брюн стал крестным отцом его сына, генштабист Бертье (с братом которого Дюма был на ножах) добился для него разрешения на охоту в заповедных лесах близ Вилле-Коттре. Многие другие боевые товарищи оказывали Дюма материальную помощь, а если не имели для этого возможности, то хотя бы моральную поддержку. Нет, Дюма пока не нищенствовали, но им все сложнее было поддерживать тот уровень жизни, к которому они привыкли. Все чаще и чаще самые дорогие и красивые вещи оказывались заложенными в ломбарде. В 1806 году генерала Дюма не стало. Однажды, вернувшись с верховой прогулки, он почувствовал ужасную слабость и был вынужден лечь. Поняв, что умирает, этот незаурядный человек ненадолго потерял самообладание, в отчаянии закричав: «Неужели генерал, который в 35 лет командовал тремя армиями, должен в сорок умирать в постели, как трус? О боже, боже, чем я прогневил тебя, что ты обрек меня таким молодым покинуть жену и детей?» – так описывает последние дни этого человека французский писатель Андре Моруа в своей книге «Три Дюма». Впрочем, он быстро взял себя в руки, велел вызвать священника, исповедовался, причастился Святых Тайн и скончался на руках у жены. Когда он испустил последний вздох, часы начали отбивать полночь. Большинство тех, с кем он служил, были твердо уверены в том, что убила его не только и не столько болезнь, от которой он почти оправился, сколько мирная размеренная жизнь. «Под огнем он протянул бы дольше», – сказал по этому поводу французский маршал Никола Жан де Дье Сульт. Тома-Александр не оставил жене крупных долгов, но не оставил и имущества. Более того, по наследству от него его вдове и детям досталась неприязнь императора Наполеона I. Брюн, Ожеро и Ланн явились к Бонапарту, отказывавшему в приеме генеральше Дюма, чтобы ходатайствовать перед ним о стипендии в лицее или военной школе для малыша Александра. Тщетно. Они напомнили своему монарху о подвигах генерала Дюма и получили в ответ жесткую отповедь. «Я запрещаю вам раз и навсегда упоминать в моем присутствии имя этого человека», – сказал Наполеон. Жан-Мишель Девиолен, инспектор лесов, являвшийся родственником жены Дюма, просил имперского графа, генерала Пилля, о назначении небольшой пенсии Мари-Луизе Дюма, поскольку «долгая болезнь генерала поглотила те скудные сбережения, которые у них были», и тоже получил отказ. В итоге заботу о Мари-Луизе и ее детях были вынуждены взять на себя старики Лабурэ. Александр Дюма рос ребенком сообразительным, но непоседливым и озорным. Чтение и письмо он освоил еще в юном возрасте, выработав при этом замечательный прямой и ровный почерк. При этом буквы он украшал разнообразными завитушками, виньетками и сердечками, что с точки зрения графологии прямо указывает на некоторое тщеславие. А вот в математике он успехов добиться так и не смог, до конца жизни не продвинувшись дальше умножения. Мать пыталась учить его и музыке, но потерпела полное фиаско – Александр был совершенно лишен слуха и не мог ни петь, ни играть на музыкальных инструментах. Зато в 10 лет он увлекся физическими упражнениями, фехтованием и стрельбой. А затем выяснилось, что, несмотря на отсутствие слуха, он прекрасно чувствует ритм. Дюма стал неплохим танцором. Дома он проводил мало времени, предпочитая веселую компанию сверстников, с которыми бегал в лес охотиться, ставить силки, играть в дикарей и дружить с браконьерами. Вообще-то браконьерству он и сам был не чужд, что привносило некоторое разнообразие в рацион семьи Дюма. Как раз в это время скончался его дальний родственник, аббат Консей, завещавший ему стипендию в семинарии. Юноша должен был получать ее при поступлении. Вдовствующая генеральша Дюма, которой не столь уж и легко было прокормить, одеть и обуть двоих детей, попыталась уговорить Александра стать священником, и тот даже согласился, но... Получив от матери 12 су на покупку чернильницы (такой, какая была у всех семинаристов), сын бравого генерала накупил на эти деньги колбасы с хлебом и на трое суток скрылся в окрестных лесах, где все это время охотился на птиц. Вернувшись на четвертый день домой, он не только не получил ремня, но и был обласкан натерпевшейся страха матерью, которая поклялась никогда больше вопрос о семинарии не обсуждать. Впрочем, учиться было все равно нужно, и Мари-Луиза Дюма определила своего сына в местный колледж аббата Грегуара. Добрый падре относился к ученикам вполне лояльно, но с Александром ему пришлось намучиться. Несмотря на беззлобность и отходчивость, необыкновенная гордыня Александра постоянно приводила к конфликтам со сверстниками и преподавателями. Он был очень тщеславен и дерзок, к тому же будущий знаменитый писатель не отличался прилежанием. Кроме того, юноша отчаянно прогуливал занятия, в теплую погоду пропадая все дни в лесу, где любил охотиться. Конечно, такое «образование» мало что могло дать. Александр освоил только азы латыни, грамматики да усовершенствовал свой почерк. Что же касается молитв, которые входили в обязательную программу обучения, он смог осилить только три классические: «Pater Noster», «Ave Maria» и «Credo» («Отче наш», «Богородица» и «Верую»). Мать его, женщина скромная и работящая, с радостью узнавала в подрастающем Александре (в 10 лет мальчик выглядел на все 14) его отца, такого же необузданного и добросердечного дикаря, которого она некогда полюбила и которому стала достойной подругой жизни. Несмотря на скромность, она отнюдь не была робкой домохозяйкой, о чем свидетельствует следующий случай. В 1815 году два французских генерала, участвовавших в заговоре против Людовика XVIII, братья Лальман, были арестованы жандармами Вилле-Коттре и заключены в тюрьму города Суассона, чему безумно обрадовались жители Вилле-Коттре, традиционно поддерживавшие Бурбонов. Госпожа Дюма была до глубины души возмущена оскорблением, что было нанесено военным, которые носили те же эполеты, что и когда-то ее муж. Она немедленно позвала к себе сына и сказала ему примерно такие слова: «Мой мальчик, мы сейчас совершим поступок, который может нас жестоко скомпрометировать, но в память о твоем отце мы обязаны сделать это». Они прибыли в Суассон, где Александр пробрался в камеру к генералам, чтобы передать им золото и пистолеты. Впрочем, братья от этой помощи отказались, поскольку им было известно о скором «втором пришествии» Наполеона, и они были уверены в своем освобождении. История показала, что они были правы. После Ста дней Бонапарта и восстановлении короля Людовика XVIII в своих правах Мари-Луиза Дюма решила держать совет с сыном. Ее волновала проблема, стоит ли Александру принять фамилию, на которую он имел полное право, – Дави де ля Пайетри. Вместе с титулом маркиза она открыла бы ему новые возможности в жизни. Однако Александр подумал и отказался, решив, что предаст память отца, если изменит свою фамилию. К тому же деда он совсем не знал, всю свою жизнь общаясь лишь с родственниками матери, и это была еще одна причина, по которой он не хотел называться Дави де ля Пайетри. Познакомившись с Огюстом Лафажем, сыном местного медника (мать Огюста арендовала помещение под табачную лавку), Дюма увлекся стихосложением. Лафаж-младший работал в Париже главным клерком у нотариуса. Он рассказывал Александру о столичной жизни, о литературе, парижской богеме и театрах. Он даже показал Дюма собственные стихотворные эпиграммы. Дюма, тщеславие которого было велико, увидел в этом возможность прославиться и разбогатеть. Он немедленно отправился к аббату Грегуару и попросил научить его писать стихи. Аббат несколько удивился, но согласился, сказав, впрочем, что Александру этого увлечения хватит максимум на неделю. Священник, который отлично знал своего ученика, был абсолютно прав. Сын прославленного генерала, живший в эпоху великих перемен, он, как и все его сверстники, слышал слишком много увлекательных историй, чтобы его заинтересовал анализ чувств. Корнель и Расин могли вызвать у него только зевоту и смертную скуку, но не восторг. Тем временем подошла пора выбирать занятие, которым Александр стал бы заниматься в жизни. Мать устроила его младшим клерком в нотариальную контору метра Меннесона, такого же республиканца, как она и ее муж. Эта работа, к тому же дающая надежду сделать неплохую карьеру и сколотить состояние, была ему по душе. Обычно его посылали с разнообразными поручениями. Развоз документов на подпись окрестным крестьянам тоже лег на его плечи, что, собственно, устраивало его как нельзя лучше, ведь это был повод совершать верховые прогулки, а порой и поохотиться в дороге. В 16 лет он познакомился с бравым гусарским офицером по имени Амедей де ля Понс, приехавшим в Вилле-Коттре к невесте, на которой он вскоре женился. Это был очень образованный человек, вскоре он сдружился с Александром и решил принять участие в его судьбе. Однажды он сказал ему: «Поверьте мне, мой мальчик, в жизни есть не только охота и любовь (а Дюма к тому времени стал одним из первых ловеласов своего города), но и труд. Научитесь работать, и вы научитесь быть счастливым». Амедей де ля Понс предложил Дюма выучить немецкий и итальянский языки, которыми сам гусар владел в совершенстве, и Александр согласился. Вместе они переводили Гёте, Бюргера, Фосколо... Офицеру удалось открыть для Александра мир литературы, к которому тот раньше относился с прохладцей. Затем в Суассон приехала актерская труппа с постановкой «Гамлета» в отвратительном переводе Дюси, не оставившего в своей обработке почти ничего шекспировского. Однако постановка стала откровением для Александра. В своих мемуарах он писал об этом событии: «Вообразите слепца, которому вернули зрение, вообразите Адама, пробуждающегося после сотворения». Но на деле он открыл для себя не Шекспира – он открыл свой путь. Александр увидел не только глубокие мысли, идеи и философские монологи, но и страсти, свободное построение пьесы, большую роль конкретных деталей и мелодраматические эффекты – словом, огромные возможности для творчества. Дюма решил для себя: он будет драматургом. Кипучей энергии в нем было на пятерых, веры в свою звезду – на десятерых. Он заразил своей идеей часть молодежи Вилле-Коттре, и они организовали в городке любительский театр. За 1820–1821 годы он со своим приятелем Адольфом де Левеном написал и поставил несколько пьес. Однако некоторое время тот увел у него подругу, Адель Дальвен, женился на ней и уехал в Париж (это, впрочем, не стало поводом для ссоры). Вскоре в столице побывал и сам Дюма. Его приятель по фамилии Пайе однажды предложил ему посетить Париж. Сказано – сделано, но где взять деньги на поездку? Дюма решил вопрос просто. Молодой, но уже очень опытный охотник, он взял с собой ружье и по дороге добывал пропитание для себя и Пайе. На момент появления в Париже у него в кошельке свистел ветер, зато в сумке лежали четыре зайца, двенадцать куропаток и четыре перепелки. В обмен на дичь хозяин постоялого двора «Великие августинцы» предоставил ему кров и простой стол на двое суток. На следующий день в «Комеди Франсез» давали «Суллу», где главную роль играл сам великий Тальма. Дюма, у которого денег на билет не было, поклялся побывать на представлении. Клятву свою он сдержал. С помощью Левена он проник в гримерку к Тальма и получил от актера, неплохо знавшего генерала Дюма, контрамарку на представление. Тальма приглашал его посетить и следующее представление, но Александр не мог себе этого позволить – нужно было возвращаться на службу. Вернувшись из Парижа, который его очаровал и покорил, Дюма заявил матери, что намерен перебраться в столицу, театры которой достойны его таланта. От скромности Александр никогда не страдал. На первое время нужны были деньги, но где их взять? У его матери было всего 253 франка, половину из которых она готова была отдать сыну, еще за сотню Дюма продал своего пса Пирама, но этого было крайне мало. На что Александр собирался жить? «Я обращусь к старым друзьям отца: к маршалу Виктору, герцогу Беллюнскому, он теперь военный министр, к генералу Себастьяни, к маршалу Журдану... Они подыщут мне место в одной из своих канцелярий с жалованьем в тысячу двести франков в год для начала. Потом я получу повышение и, как только начну зарабатывать полторы тысячи франков, выпишу тебя в Париж», – заявил Дюма своей матери. Та отнеслась к его словам достаточно скептически (еще бы, ведь все перечисленные лица стали рьяными роялистами, а тут к ним явится сын генерала-республиканца), но, мудро рассудив, что сына все равно не переубедить, дала свое благословение. На всякий случай Дюма запасся рекомендательным письмом к генералу Фуа, лидеру оппозиции и депутату, обыграл в бильярд продававшего билеты на дилижанс папашу Картье и отправился покорять Париж. Генералы-роялисты оказали Дюма самый холодный прием, а министр и вовсе не дал аудиенции, но у Фуа его встретили, что называется, с распростертыми объятиями. Генерал, восхищавшийся героизмом его отца, решил немедленно устроить жизнь Александра. Однако, выяснив, что тот ничего не смыслит ни в точных науках, ни в юриспруденции, ни в бухгалтерии, несколько опешил, не зная, куда пристроить такого неуча. Он попросил его оставить ему адрес, по которому остановился Дюма, дабы, поразмыслив на досуге, послать ему уведомление о его будущем месте работы, но, едва взглянув на почерк Александра, понял, где сможет пристроить его. На следующий же день он рекомендовал Дюма герцогу Орлеанскому (будущему королю Луи-Филиппу), которого тот и принял в свою канцелярию, назначив оклад в 1 200 франков в год. Дюма немедленно сообщил о своем успехе матери, однако та не торопилась переезжать к сыну, лишь выслала ему мебель, которой Александр обставил снятую им комнатку в доме № 1 на Итальянской площади. Начальник личной канцелярии Его Высочества герцога Орлеанского, расположенной во дворце Пале-Рояль, мсье Удар, принял Дюма очень хорошо. Александру выделили отдельную конторку, где он должен был ежедневно работать с 10 утра до 5 вечера, а затем, после двухчасового перерыва, еще с 7 до 10. Фуа в качестве благодарности за услугу, оказанную им, потребовал, чтобы Дюма занялся самообразованием (кто знает, возможно, этот политик планировал как-то использовать в своих целях сына знаменитого генерала), и тот обещал учиться. Тут ему очень помог его новый друг и сослуживец Лассань. Это был человек очень обширных познаний, и потрясающее невежество, как, впрочем, и ум Дюма, его просто потрясли. За обучение Александра Лассань взялся со всем возможным пылом. Он составил ему длиннейший список книг, которые тому следовало прочесть, и открыл доступ к своей обширной библиотеке, где было великое множество произведений французских и иностранных авторов, как художественных, так исторических, в том числе мемуаров и хроник. При этом Дюма умудрялся быть завсегдатаем театров, куда ходил, дабы изучить свою будущую профессию: мечта стать драматургом его не покидала. А вскоре случай свел его с театральной знаменитостью. Будучи на представлении более чем посредственной мелодрамы под названием «Вампир», он разговорился с обаятельным и эрудированным мужчиной средних лет, но уже совершенно седым. Искренность и наивность Дюма позабавили парижанина, и тот преподал ему урок хорошего вкуса. Знакомство не продлилось, поскольку сосед Дюма постоянно освистывал актеров, за что и был удален в третьем акте. На следующий день Дюма узнал из газет о том, что его соседом был знаменитый критик и писатель Шарль Нодье, который впоследствии сыграл важную роль в жизни Александра. Благосклонность такого человека была большой честью (и могла поспособствовать карьере драматурга), но, для того чтобы ее добиться, нужно было вращаться в тех же кругах, что и Нодье, а для этого, в свою очередь, необходимо было добиться признания. Вместе с Левеном, с которым Дюма продолжал поддерживать дружбу, он написал пошловатый и ничем не блистающий одноактовый водевильчик «Охота и любовь», который, несмотря на все его недостатки, был принят к постановке в «Амбигю». Известной эта постановка, конечно, его не сделала, зато принесла ему три сотни франков, которые пришлись весьма кстати. Именно в этот период он ухаживал за белошвейкой Катариной Лабе. Эта женщина была старше его на 8 лет, что, впрочем, Дюма ничуть не смущало. Она была его соседкой по этажу и держала в своем помещении небольшую мастерскую с несколькими наемными работницами. Александр возил Катарину отдыхать в Медонский лес, пылко и настойчиво ухаживал за ней, к тому же он был силен, мужествен и красив, у него была очень перспективная служба. В конце концов все эти доводы заставили белошвейку упасть в объятия Дюма. Очень скоро выяснилось, что Дюма в ближайшее время станет отцом. Катарина убедила Александра переселиться к ней, и 27 июля 1824 года родила ему сына, которого, так же как и отца с дедом, нарекли Александром. Дюма очень уважал и ценил мать своего ребенка, но жениться на ней совершенно не желал. Он мечтал не о теплом и уютном гнездышке, куда будет возвращаться каждый день после работы, а о красивой и веселой (ко всему еще и беспутной) жизни – такой, о которой он читал в романах и ради которой хотел сохранить свободу. Ко всему прочему, нельзя было забывать о матери, решившейся наконец покинуть провинцию и переехать к сыну. Ей Дюма так ничего и не сказал о рождении внука. Александр снял для нее квартиру в доме № 53 по улице Фобур-Сен-Дени, увеличив свои расходы на 350 франков в год. Но и Катарина Лабе, и маленький Александр тоже нуждались в его финансовой помощи. На шее у молодого служащего оказались сразу трое человек. Тут очень кстати подоспело повышение. Мсье Удар доложил об Александре Дюма своему патрону, герцогу Орлеанскому, как о лучшем переписчике, быстро и качественно выполнявшем свою работу, не забыв упомянуть и его замечательный почерк. Его Высочество заинтересовался и пригласил Дюма к себе. «Вы сын того храбреца, который по вине Бонапарта умирал с голоду? – спросил он. – У вас прекрасный почерк, вы великолепно подписываете адреса; проходите в кабинет и садитесь за стол. Я дам вам для переписки один документ». Через две недели после этой встречи Дюма получил повышение в должности и окладе: теперь он зарабатывал в год 2 тыс. франков. Возможно, Дюма и сделал бы хорошую карьеру, не мечтай он столь сильно стать драматургом. А пока, с новой работой, на театр времени у него совершенно не оставалось. Две недели в месяц он был ответственным за почту: его обязанности заключались в сортировке и пересылке герцогу всех вечерних газет и пришедших за день писем, а также в ожидании возвращения курьера с полученными указаниями. Должность эта, хотя и была во многом синекурой, совершенно не оставляла времени на посещение театров, кроме расположенного рядом «Комеди Франсез», куда Дюма нередко захаживал, освободившись от работы. Дюма был уверен, что будь у него время писать, он создавал бы шедевры (история показала, что он был абсолютно прав), но суть в том, что как раз времени-то у него и не было. Возвращаясь домой в одиннадцатом часу, уставший от работы, интриг, суеты большого города и непомерных расходов, он волей-неволей задумывался, а надо ли это ему? Не лучше ли было остаться в Вилле-Коттре? Впрочем, он быстро подавлял эти малодушные мысли. В 1832 году произошло знаменательное для французского театра событие, которое во многом определило и дальнейший творческий путь Александра Дюма. В Париж приехала английская труппа, решившая покорить французскую столицу постановками своего гениального, но практически не известного на континенте соотечественника Вильяма Шекспира. Было это, надо заметить, отнюдь не просто. Драма как жанр в то время только завоевывала французскую публику. Да, действительно, такие прославленные и талантливые актеры, как Фредерик Леметр и Мари Дорваль, превратили драму в искусство, но серьезные театры все еще не принимали ее к постановке. Парижане с нетерпением ждали состязания между классической трагедией и британским гением. Особенно нетерпеливы были молодые драматурги романтической школы, желавшие вывести драму на подмостки «Комеди Франсез», что автоматически перевело бы этот жанр из разряда бульварной литературы в разряд серьезной. Постановки происходили в «Одеоне» и театре «Фавар». То, как они закончились, успехом назвать мало – это был полный фурор! Англичане играли так, как не осмеливался играть никто из французов, не говоря уже о том, что это еще было сделано и мастерски. Их пантомимы были неистовы и экспрессивны, сцены агонии и смерти – правдоподобны и реалистичны (что публику, привыкшую к благопристойной кончине персонажей во французской трагедии, не только шокировало, но и приводило в подлинный экстаз), а сатанинский хохот – недавнее (и удачное) изобретение актеров туманного Альбиона – вошел в постановки французских театров сразу и надолго. Окончательный успех британцев и их полнейшее признание в профессиональных кругах ознаменовалось тем фактом, что прима «Комеди Франсез», признанная королева французского театра, несравненная мадемуазель Марс, появившаяся на постановке с более чем скептическим видом, после первого же просмотра пьесы стала приходить ежедневно. Романтики праздновали победу. Дюма тоже посещал все постановки англичан, учась не только и не столько игре, сколько жанру и возможностям интерпретаций одного и того же персонажа. «Я видел в роли Отелло Тальма, Кина, Кембля, Макриди и Жоани... Тальма играл мавра, которого уже коснулась венецианская цивилизация; Кин – дикого зверя, полутигра, получеловека; Кембль – мужчину в расцвете сил, вспыльчивого и неистового в гневе; Макриди – араба времен гренадского халифата, изящного и рыцарственного; Жоани – играл Жоани...» – записал он. Актеры драмы ринулись на поиски пьес, где они могли бы в полной мере проявить новинки в игре, но таких произведений во Франции еще просто не было. И Дюма решил написать такую пьесу. Но какой сюжет избрать? Где можно так живописно показать великие события, насилие, интриги, где дать неожиданные, потрясающие воображение развязки? Античность была вотчиной классиков, описывать современные события опасно. В лучшем случае отправят за сто первый километр, а в худшем ему светит дюнкеркская каторга. Дюма, как это часто потом случалось, помог случай. В ежегодном салоне живописи и скульптуры он наткнулся на барельеф, изображающий убийство Джованни Мональдески, которое произошло в 1657 году в Оленьей галерее замка Фонтенбло по приказу королевы Швеции Христины. Александр Дюма, в образовании которого, несмотря на упорную учебу, все еще оставались пробелы, обнаружил, что имеет смутное представление об этом событии и самом государстве Швеция. Дюма одолжил книгу «Всемирная биография» у своего друга, образованного и состоятельного человека по имени Фредерик Сулье, с которым некогда пытался переделать для театра один из романов Вальтера Скотта. Из книги начинающий писатель узнал следующие факты: Мональдески, бывший любовником королевы Христины, приревновал ее к итальянцу Сентинелли, которому Ее Величество начала благоволить, написал ряд оскорбительных для Христины и компрометирующих ее писем, за что и был умерщвлен соперником по повелению взбешенной королевы. Сюжет был неплох. Дюма предложил Сулье написать пьесу вместе, на что тот ответил, что это сюжет не для драмы, а для трагедии. В конце концов они решили устроить своеобразное творческое соревнование: каждый должен был написать свою «Христину», а закончивший первым попытает удачу на подмостках театра. Тут Александр оказался явно в проигрышной ситуации. Он являлся обычным мелким служащим, чей день был занят работой: писать он мог разве что по ночам. Он обратился за советом к крайне доброжелательно относившемуся к нему мсье Удару, на что тот ответил, что единственный способ освободить часть времени – это перевести Дюма из личной канцелярии герцога Орлеанского в одно из управлений, где нет вечерней работы. Но такое перемещение напрочь загубило бы карьеру Александра, чего он, Удар, никак не желал. Дюма, который оказался уверен, что его ждет большой успех на писательском поприще, напротив, с энтузиазмом ухватился за предложение Удара. Он перевелся в Управление лесными угодьями, которым руководил уроженец Вилле-Коттре, старый друг его отца, много сделавший для их семьи, мсье Девиолен. Благодаря протекции Удара, с тяжелым сердцем отпускавшем Дюма на новое место, он получил отдельный кабинет, где ему никто не мешал, и смог уделять «Христине» хотя бы пару часов в день. Вскоре он написал пятиактную пьесу в стихах. Оставалось только найти театр, который бы принял ее. Дюма замахнулся на «Комеди Франсез». Встретив в коридоре канцелярии суфлера, этого «императора французских театров», который ежемесячно приносил билеты для герцога Орлеанского, Александр спросил его, что нужно для того, чтобы прочитать пьесу перед советом театра. Оказалось, что следует всего-навсего оставить рукопись у экзаменатора и ждать его положительного отзыва. Была, правда, одна загвоздка. У экзаменатора, который театру по штату полагался всего один, лежали тысячи рукописей, и ответа (как хорошего, так и плохого) можно было ждать годами. Конечно, экзаменатора можно было обойти, если иметь знакомство с бароном Тейлором, королевским комиссаром «Комеди Франсез», но в том-то и дело, что к нему Дюма вхож не был. Тогда непосредственный начальник Дюма, которому он однажды рассказывал о своей встрече на постановке «Вампира», посоветовал ему обратиться за помощью к Шарлю Нодье, хорошему другу Тейлора. Нодье, о чем было известно всему Парижу, никогда и ничего не забывал. Дюма решил, что ничем, собственно, не рискует, и написал знаменитому критику письмо, где вспомнил достопамятный вечер в театре, просил рекомендовать его барону Тейлору. Ответ пришел от самого королевского комиссара, который приглашал Александра к себе на квартиру к 7 утра. Явившись в назначенный час, Дюма застал Тейлора принимающим ванну: тот, будучи очень занятым человеком, просто не мог себе позволить выделять время для прослушивания каждого автора отдельно, даже и рекомендованного друзьями, и вынужден был совмещать работу и быт. Дюма сказал, что прочтет только один акт, а далее – по желанию барона. «В добрый час! – ответил Тейлор. – В вас больше жалости к ближнему, чем в ваших коллегах. Что ж, это хорошее предзнаменование. Я вас слушаю». И выслушал всю пьесу. Когда же Дюма закончил, барон немедленно повез его в «Комеди Франсез», чтобы внести в списки на прослушивание. Через неделю Дюма читал «Христину» совету. Пьеса произвела на слушателей хорошее впечатление, однако же они не могли вот так, запросто, взять и принять без нареканий произведение молодого и никому не известного автора, тем более, что «Христина» и впрямь не была лишена недостатков. Совет постановил пьесу принять, но отдать на доработку опытному автору, на которого театр мог положиться. Выбор пал на мсье Пикара, автора огромного количества комедий, пользовавшихся несомненным, хотя и недолгим, успехом. Впрочем, Дюма на оговорку о доработке внимания не обратил. Еще бы! Ему всего 26 лет, а его пьесу уже собирается ставить «Комеди Франсез»! Было от чего потерять голову. Через неделю, правда, он чуть было не потерял ее от огорчения. Пикар пьесу «зарезал», дав ей самый нелестный отзыв. Не зная, что делать, Дюма снова обратился к барону Тейлору, и тот снова оказал ему помощь: он добился повторной читки пьесы, на сей раз направив ее Шарлю Нодье. На следующий день барон продемонстрировал Дюма рецензию, сделанную Нодье на первой странице рукописи. «По чести и совести заявляю, что „Христина“ – одна из самых замечательных пьес, прочитанных мною за последние 20 лет». И пусть Дюма не обладал тем поэтическим талантом, что его друг и ровесник Виктор Гюго, зато он своими произведениями гораздо лучше мог увлечь зрителя. Прослушав пьесу еще раз, совет вновь принял «Христину», и вновь с условием. Дюма вместе со старейшиной театра, мсье Самсоном, должен был внести в пьесу ряд исправлений, что и было исполнено. Актеры начали репетиции, но света рампы «Христина» в этот раз не увидела. Неприятности начались с противостояния Дюма и мадемуазель Марс, являвшейся полновластной хозяйкой «Комеди Франсез» и грозой всех авторов. Актриса была уже немолода (хотя и выглядела очень хорошо) и консервативна; сделав карьеру в трагедии, она просто не могла играть драму. В «Христине» ей пришлось бы рвать на себе волосы, валяться на коленях, рыдать и вопить, что она считала дурным вкусом. Марс предложила Дюма сделать несколько купюр и слегка переработать ее роль, на что Александр, считавший свою пьесу верхом совершенства, ответил отказом. В свою очередь мадемуазель Марс на репетициях начала попросту манкировать неприятные ей реплики, упрямо заявляя суфлеру, что Дюма все-таки переделает роль. Что по этому поводу думал сам Дюма, ее ни в малейшей мере не интересовало. Стоит ли говорить о том, что такое противостояние отдаляло премьеру?
Тем временем совет «Комеди Франсез» принял к постановке еще одну «Христину», принадлежавшую перу поэта и бывшего субпрефекта, мсье Бро. Поскольку тот был уже при смерти, совет решил дать старику порадоваться перед смертью и поставить сначала его пьесу. Тут Дюма, несмотря на всю его заносчивость, даже и не думал возражать. В конце концов, он был молод, а Бро доживал последние дни. К тому же его «Христина», после посредственной пьесы Бро, смотрелась бы шедевром драматургии. Но тут «Христину» закончил Сулье, и «Одеон» активно начал готовиться к ее постановке, а это делало постановку Дюма уже просто смешной. Он плюнул в сердцах и забрал пьесу. Впрочем, ей это пошло только на пользу, поскольку Дюма продолжал ее дорабатывать. А между тем Александру были очень нужны деньги. Ведь на новом месте он получал меньшую зарплату, а ему еще приходилось содержать мать и жену с ребенком. Он обратился за советом к друзьям, хорошо разбиравшимся в театральной жизни, и те порекомендовали ему написать прозаическую драму с главной ролью специально для мадемуазель Марс, что он счел замечательной идеей. Выбрать тему вновь помог случай. В кабинете одного из своих сослуживцев Дюма увидел книгу известного историка Анкетиля, открытую на странице, где рассказывался исторический анекдот из жизни знаменитого герцога Генриха де Гиза. Де Гизу однажды донесли, что его супруга, Екатерина Клевская, наставляет ему рога вместе с фаворитом короля Генриха III, Полем де Коссадом, графом де Сен-Мэгрен. Шашни жены его волновали мало, но все же герцог решил наказать изменницу. Ранним утром он явился в спальню супруги, держа в одной руке кинжал, а в другой кубок. Предъявив жене обвинение в неверности, он поинтересовался, предпочитает она умереть от кинжала или от яда. Та рыдала, валялась у супруга в ногах, но суровый герцог был непреклонен. Тогда Екатерина собралась с духом, взяла у него кубок и выпила отраву. Однако яд не действовал. Через час довольный донельзя Генрих де Гиз успокоил жену, сказав ей, что в кубке был обычный бульон. Зато с Сен-Мэгреном обманутый муж обошелся не так милосердно. По приказу Гиза его вскоре убили прямо на одной из парижских улиц. История эффектная, но приключений в ней для пьесы было маловато. Тогда он совместил приключения Клевской и де Коссада с приключениями Луи де Бюсси д, Амбуаза и его любовницы, Франсуазы де Шамб, графини де Монсоро. Именно о последних он написал роман под названием «Графиня де Монсоро» и романтическую драму «Генрих III и его двор». Правда, Франсуазу он решил переименовать в Диану. Сначала он решил прочитать свое новое произведение лишь небольшому кругу друзей. Чтение произошло в доме мадам Мелани Вальдор, дочери известного писателя, находившейся замужем за офицером. «Генрих III» произвел на них впечатление, однако общее мнение склонялось к тому, что пьеса чересчур смела для начинающего автора. Тогда Дюма прочел свое произведение в доме известного журналиста Нестора Рокплана, где была принята очень хорошо. Присутствовавшая там мадемуазель Марс решила, что ей очень подойдет роль Клевской, очень выгодно подчеркивавшей положительные стороны ее игры, и стала горячей сторонницей пьесы. Благодаря ее протекции пьеса была принята «Комеди Франсез» вне очереди, и ее начали готовить к постановке. В это время на Дюма обрушилось два удара. Сначала его вызвал генеральный директор канцелярии герцога Орлеанского, барон де Броваль, и заявил, что Дюма должен заниматься или службой, или литературой, но не совмещать их. Тот ответил, что, поскольку Его Высочество является признанным покровителем литературы, он не собирается ни увольняться, ни оставлять работу над пьесами. Если же жалованье является слишком тяжелым расходом для герцога, то он готов отказаться от него. Со следующего месяца будущий великий писатель перестал получать деньги на службе. Впрочем, с этой бедой Александр справился легко: он очень быстро нашел новый источник средств к существованию. Банкир Лафит выдал Дюма 3 тыс. франков (жалованье за 2 года) в обмен на право хранить рукопись «Генриха III» в его банке. После премьеры пьесы это стало такой хорошей рекламой Лафиту, что он быстро вернул эти деньги. Однако примерно в это время Дюма постиг новый удар: так называемые доброжелатели сообщили его матери о том, как у ее сына обстоят дела на службе. Уже пережив один финансовый кризис перед смертью мужа, женщина очень боялась остаться на улице. Она начала беспокоится о будущем, и вскоре ее хватил удар, что привело к частичному параличу. Впрочем, здраво рассудив, что, предаваясь унынию, он матери ничем не поможет, Дюма не стал откладывать премьеру. Накануне первого представления он добился аудиенции у герцога Орлеанского. Его Высочество принял Дюма очень радушно, и Дюма просил его почтить своим присутствием премьеру «Генриха III», которая должна была состояться 11 февраля 1829 года. Герцог сначала расстроился, поскольку именно на этот день у него был назначен званый обед, но затем решение проблемы было найдено. Герцог начинал прием на час раньше, а Дюма переносил представление на час позже. Для себя и своих гостей герцог зарезервировал все ложи бенуара. На первую постановку «Генриха III и его двора» явилось не менее трех десятков высших аристократов Франции с супругами, а также большинство представителей богемы. Партер был не переполнен. Пьесу публика приняла с восторгом. На следующий день Дюма проснулся знаменитым. Вернее сказать, он лег спать, уже будучи знаменитостью. Дом его утопал в цветах, присланных поклонниками его таланта. Барон де Броваль прислал ему письмо, содержащее следующие слова: «Я не мог лечь в постель, мой дорогой друг, не сказав вам, как меня порадовал ваш успех. Мои товарищи и я счастливы вашим триумфом...» Однако, несмотря на успех, цензура моментально запретила пьесу к дальнейшему показу. Оказывается, Карл Х усмотрел в Генрихе III и герцоге Гизе, его кузене, сходство с собой и герцогом Орлеанским. Узнав об этом, герцог явился к королю и убедил его снять запрет. «Государь, Вы заблуждаетесь по трем причинам: во-первых, я не бью свою жену; во-вторых, герцогиня не наставляет мне рога, и в-третьих, у Вашего Величества нет подданного более преданного, чем я», – сказал он. Карл Х сменил гнев на милость и дал разрешение показывать пьесу. «Генрих III» выдержал 38 представлений, и были сделаны отличные сборы. Так в 27 лет Александр Дюма, молодой человек, приехавший из городка Вилле-Коттре, без протекции, без денег, без образования, стал знаменит на всю Францию и был принят в круг молодых и амбициозных авторов, которым вскоре предстояло произвести коренную перестройку всей французской литературы. В это общество его ввел Нодье. Он делал все, чтобы облагородить вкус Дюма, и даже пытался вылечить его от хвастовства (безуспешно). Тем временем подошло время и для постановки «Христины». Одноименная пьеса Сулье с треском провалилась, и директор «Одеона» Феликс Арель предложил устроить постановку «Христины» Дюма. Александр посоветовался с Сулье и получил от друга следующий ответ: «Собери обрывки моей „Христины“ – а их, предупреждаю тебя, наберется немало – выкинь все в корзину первого проходящего мусорщика и отдавай твою пьесу». Так Дюма принял предложение Ареля. Первая постановка закончилась непонятно. Во-первых, стихи Дюма писал посредственно, а когда Христина, которую исполняла ведущая актриса «Одеона», мадемуазель Жорж, продекламировала: «Как ели древние приблизились они», – веселью в зале не было предела. Во-вторых, только что с шумным успехом прошла «Эрнани» Гюго и на ее фоне «Христина» выглядела довольно бледно. И в-третьих, эта пьеса принадлежала к жанру совершенно неопределенному: наполовину драма, наполовину трагедия. Когда занавес опустился, в зале поднялся такой шум, что никто не мог сказать, успех это или полное фиаско. Гюго и Виньи, верные друзья, немедленно приступили к переделке наиболее неудачных мест пьесы, и на следующем же представлении «Христину» встретили аплодисментами. За право опубликовать «Христину» Дюма получил 12 тыс. франков. А тем временем он уже работал над новой, еще более новаторской пьесой «Антони», многие моменты которой позаимствовал из своей личной жизни, а главную героиню списал с Мелани Вальдор, которая к тому времени стала одной из его многочисленных любовниц. Новаторство пьесы заключалось в том, что впервые за всю историю европейского театра главной героиней стала не простушка-крестьянка, не аристократка былых времен, а современная дама из высшего общества, которая совершила прелюбодеяние. Этот образ впоследствии на добрую сотню лет оккупирует сцены французских театров. Тем временем в Париже началось брожение умов. В воздухе явственно запахло очередной революцией. Дюма, собиравшийся совершить путешествие в Алжир, распаковал чемоданы и послал своего слугу в магазин за новым ружьем и двумя сотнями патронов к нему. Его поведение во время революции, свидетелем которой он стал и которая продлилась всего несколько дней, как нельзя лучше вскрыло все противоречия его характера. Он показал себя как легко увлекающийся и импульсивный человек, мало заботящийся о своем будущем. Именно эти качества и стали причиной грандиозного банкротства, которое пришлось пережить этому знаменитому на всю Францию писателю. Когда началась Июльская революция, Дюма отнюдь не остался в стороне. Этот двухметровый здоровяк схватил принесенное слугой оружие и боеприпасы, надел охотничий костюм и выступил на стороне повстанцев. Он организовал строительство баррикад в своем квартале, участвовал в боях и собраниях, писал статьи, воззвания и прокламации. Тем временем вожди восставших были очень обеспокоены: в городе было мало пороха, и если бы Карл Х двинул на Париж верные части, участь повстанцев была бы предрешена. Тогда Дюма сообщил генералу Лафайету, что сможет достать порох. Генерал позволил ему попытаться осуществить это, и Дюма с несколькими товарищами поскакал в Суассон, где находился армейский склад. Размахивая револьвером, он ворвался к коменданту, виконту де Линьеру, и потребовал сдачи склада. В этот же момент в комнату влетела и жена коменданта с криком. «Сдавайся, немедленно сдавайся, друг мой! Негры опять взбунтовались!.. Вспомни о моих родителях, погибших в Сан-Доминго!». Так Дюма достал порох. В этой ситуации он проявил такие качества, как мужество и отвага, но ему еще и очень повезло: неизвестно, как отреагировал бы виконт, если бы в его «разговор» с Дюма не вмешалась его жена. Затем Дюма вызвался отправиться в Вандею, чтобы сформировать там части Национальной гвардии, написав по возвращении отчет на имя короля. Кстати, по крайней мере одно его предложение, о размещении в Вандее лояльно настроенных священников, было принято. «Три славных дня» закончились, Дюма снял форму национального гвардейца и вновь вернулся в театр. Его постановки пользовались успехом, он много зарабатывал и еще больше тратил: на кутежи, любовниц, безделушки... Он устраивал многочисленные приемы на сотни человек, причем самолично готовил все яства, которыми были уставлены столы. Он успел переболеть холерой и спасся только тем, что совершенно случайно (как он потом говорил) выпил целый стакан неразбавленного спирта. Для поправки здоровья он отправился в Италию и немедленно ввязался там в борьбу за национальное освобождение, присоединившись к Джузеппе Гарибальди. Дюма много путешествовал, тратя больше, чем зарабатывал, охотно одалживая последние деньги многочисленным приятелям, оставаясь при этом без единого су в кармане. Бывал он и в России. Он любовался Петербургом, Москвой, Волгой, пировал у башкирского князя и с большим удовольствием ел шашлык (это оказалось одним из его самых сильных российских впечатлений), а после написал книгу воспоминаний «Из Парижа в Астрахань». Кредиторы преследовали его по пятам, но он ловко ускользал от них. Даже женился он из-за долгов! Его постоянная, так сказать основная, любовница, актриса Ида Феррье, скупила большинство его векселей и предложила выбор между алтарем и тюрьмой для несостоятельных должников. Впрочем, молодожены не считали необходимым хранить верность друг другу. Феррье нужен был титул маркизы Дави де ля Пайетри (Дюма в зрелые годы все же вернул себе принадлежавшие по праву титул и фамилию), пользуясь которыми она смогла окрутить итальянского князя и уехала к нему во Флоренцию. Наконец театр, где он достиг небывалых высот, надоел Дюма, и он решил обратиться к написанию историко-авантюрных романов. С 1844 по 1847 год в соавторстве с молодым писателем Огюстом Макэ он создал «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», «Королеву Марго», «Двадцать лет спустя», «Кавалеpa де ла Мэзон Руж», «Графиню де Монсоро», «Жозефа Бальзамо», «Сорок пять» и многие другие произведения. Дюма писал по несколько томов в месяц, оставив такое обширное литературное наследие, что можно с уверенностью утверждать: всего Дюма не читал никто. Практически неизвестно, что лучшие его произведения, которыми по сей день зачитываются во всем мире, были написаны для... газет, которые печатали их небольшими кусками, заканчивая каждую главу сакраментальной фразой: «Продолжение следует». Естественно, что тиражи газет, печатавших Дюма, очень быстро росли. Именно в тот период писателя начали называть Дюма-отец, чтобы отличать его произведения от произведений сына, который тоже (и вполне успешно) писал книги. Платили газеты построчно, что во многом предопределило стиль Дюма. Современник Дюма, не столь известный, как он, но вполне талантливый писатель Виньи даже написал пародию на знаменитые диалоги Дюма: – Вы видели его? – Кого? – Его. – Кого? – Дюма. – Отца? – Да. – Какой человек! – Еще бы! – Какой пыл! – Нет слов! – А какая плодовитость! – Черт побери! Впрочем, издатели довольно быстро раскусили эту его хитрость и стали платить только за полные строки. Впрочем, это не слишком-то его расстроило, ведь он и так уже зарабатывал по 200 тыс. франков в год. А тратил и того больше. Оставив за собой роскошную квартиру в Париже, в 1843 году он снял виллу «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ и арендовал в этом же городке местный театр, куда привез за свой счет труппу «Комеди-Франсез», обеспечил жильем и едой, взял на себя гарантии за выручку, то есть фактически устроил две недели благотворительных концертов. В тех же краях он купил лесистый участок земли под возведение замка своей мечты – Монте-Кристо. Почва там оказалась глинистая и заболоченная, что Дюма ничуть не смутило. Он приказал копать, пока строители не дошли до туфа, в связи с чем нижние этажи замка оказались подземными. Строительство и содержание Монте-Кристо встало Дюма недешево, однако замок получился чудный. Даже Бальзак, который Дюма терпеть не мог, стал там довольно частым гостем, а уж друзья писателя там дневали и ночевали. В середине 40-х годов XIX века Дюма создал исторический театр. Несмотря на то что все критики прочили ему мгновенный крах, первый сезон принес 708 тыс. франков. Второй сезон открыла драма Дюма и Маке «Шевалье де Мэзон-Руж», принесшая театру оглушительную славу, а 7 февраля 1748 года случилось небывалое – постановка «Монте-Кристо», которая шла два вечера подряд, с 6 часов вечера и до полуночи. Такого триумфа французский театр еще не знал. Все шло к тому, что исторический театр Дюма отодвинет «Комеди Франсез» на второй план, но тут в Париже разразилась очередная революция. Сборы театров упали до нуля. Исторический театр, в первую очередь из-за чрезмерно дорогих постановок, которые устраивал Дюма, так и не смог оправиться от этого удара, делая в дальнейшем ничтожные сборы. Дюма работал как бешеный, побив все рекорды своей плодовитости, но никаких гонораров не хватало, чтобы покрыть его огромные долги. Наконец на замок Монте-Кристо был наложен арест. Сумма долга составила 232 469 франков и 6 сантимов. Тут забеспокоилась и супруга Дюма, которой он был должен 120 тыс. франков (именно эту сумму она передала мужу в качестве приданого), проценты с них и назначенное ей по брачному контракту содержание. К ней присоединились теща Дюма, вдова Ферран, и его собственная дочь Мари, которая очень любила мачеху и мечтала переехать к ней. Супруга Дюма, как и он сам, оказалась на грани финансовой катастрофы и пыталась найти способы хоть что-то спасти из своего имущества. Она подала на алименты, надеясь таким путем поправить свое пошатнувшееся материальное положение. Вот одно из ее писем, адресованное мэтру Лакану, ее парижскому адвокату, из которого можно составить наиболее точную картину сложившейся ситуации: «...Мои друзья во Флоренции, так же как и я, считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я вращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные... Здесь мне на помощь пришли другие люди, иначе я даже не смогла бы дождаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, – решения, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу. Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. Восемнадцать тысяч франков на жену, тещу и дочь – не так уж и много, особенно если сравнить эту сумму с теми гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности в процессе против одной из газет, названия ее я не помню (это было зимой 1845 года), превышают двести тысяч франков в год! Впрочем, его заработки известны буквально всем...» Мари Дюма подтвердила эти факты под присягой, назвав Иду Дюма «дорогой и нежно любимой маменькой». Ко всему прочему, Александр Дюма чуть не попал под суд, поскольку дочурка пожаловалась на него, заявив, что ей, девице 16 лет, постоянно приходилось наблюдать оргии в Монте-Кристо, которые устраивал там ее отец. Узнав об этом, жена Дюма пришла в бешенство и написала мэтру Лакану еще одно письмо: «Я еще раз прошу вас добиться того, чтобы мне вернули мою падчерицу... Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су. То немногое, на что она может надеяться, она получит от меня...» Мэтру Лакану удалось выбить небольшую пенсию для вдовы Ферран, матери Иды, а 10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов и присудил Дюма выполнить следующие предписания: – возвратить жене растраченное им приданое в размере 120 тыс. франков; – платить Иде Дюма алименты в размере 6 тыс. франков в год. Александр Дюма обжаловал решение суда и снова проиграл – суд не нашел оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции. Имущество Дюма пошло с молотка. Замок Монте-Кристо продали за смешную цену в 30,1 тыс. франков, затем пришел черед обстановки. Однако финансовый крах не сломил Дюма. Он оставался все тем же добродушным весельчаком и повесой, охотно делившимся с друзьями последним. Когда умерла его бывшая любовница и друг всей его жизни, Мари Дорваль, специально для которой он некогда написал «Антони», он был единственным, кто позаботился о ее бренных останках. Семья Дорваль была бедна и не могла себе позволить покупку места на кладбище. Умирающая Мари в ужасе ожидала, что ее труп бросят в могилу для бедняков. Дюма поклялся, что не допустит этого. Едва Мари Дорваль испустила последний вздох, как Дюма отправился к министру народного просвещения, графу Фаллу. Тот не мог помочь официально, поскольку специальных фондов для таких случаев не было, но от себя лично выделил на похороны 100 франков. Но этого было недостаточно, и тогда Дюма совершил поистине героический поступок, красноречиво свидетельствовавший о глубине его чувств к почившей актрисе. Знаменитый писатель отправился в ломбард и заложил всю свою коллекцию орденов, которыми его награждали в разные годы его жизни и которой он очень дорожил. На вырученные деньги он купил участок на кладбище. 5 января 1852 года обстановка квартиры Дюма в Париже была продана «по иску владельца, в возмещение задержанной квартирной платы». Выручка от аукциона превысила сумму долга на 1 870 франков 75 сантимов. Это была вся наличность, которой мог располагать Дюма. Однако, несмотря на это, он уже не смог поправить свои дела. Некоторое время он жил в Бельгии, затем в Италии, немного путешествовал. Не имея денег, он умудрялся издавать газету «Мушкетер», писал... Но все это была долгая, растянувшаяся агония. На самом деле без помощи Александра Дюма-сына (выгодно женившегося на княжне Нарышкиной, дочери канцлера Российской империи) он просто умер бы от голода. Незадолго до смерти, наступившей 6 декабря 1870 года, Александр Дюма, уже не поднимавшийся с постели, сказал сыну: «Меня многие упрекали в расточительстве. Но я приехал в Париж с двадцатью франками в кармане». И указывая взглядом на свой последний золотой на камине, закончил: «И вот, я сохранил их... Смотри!». Ловец богатства и славы. Оноре де БальзакОн жаждал славы. Он желал ее страстно, жадно, самозабвенно. Он желал славы так, как не желал ничего на свете, он стремился к ней подобно тому, как мотылек стремится к пламени свечи, как завороженная змеей мышь стремится в зев хищника, как самец богомола, зная, что будет пожран, стремится к самке в брачный период. Он хотел ее, он трудился на износ, боролся, работал до 18 часов в сутки и преуспел, добился славы. И он был пожран ею. Так же сильно, как и славы, он желал богатства, прилагая все мыслимые труды для его достижения. Он хотел жить достойно, как полагается представителю светского общества, в котором был принят, и окружающей его аристократии, к которой самовольно себя относил. Он любил дорогие вещи и красивую жизнь, обожал те прелести жизни, те преимущества, которые дает богатство. Он искал выгодного брака среди молодых и немолодых аристократок, стремился к нему, надеялся решить свои проблемы посредством его. Он стремился к богатству, он благоговел перед ним. Он достиг богатства, но потом потерял его. Оноре Бальса, известный впоследствии как Оноре де Бальзак, родился 20 мая 1799 года в небольшом провинциальном городке Тур, расположенном на прекрасной и живописной реке Луаре. Отец его, Бернар-Франсуа Бальса, был нотариусом, который разбогател во время наполеоновских войн. Мать Оноре, Анна Шарлотта Саламбье, религиозная и благовоспитанная дочь парижского буржуа, была моложе своего супруга на 32 года. Юному Оноре досталось не слишком много родительской любви и ласки. До четырех лет он жил у своей кормилицы, простой крестьянки из Тура, затем родители отдали его в пансион Леге. Одиннадцать лет (с незначительными перерывами) провел Оноре в разнообразных пансионах и интернатах. Тяжелее всего ему пришлось в Вандомском колледже, где он проучился долгих 7 лет. Это была суровая школа. Вандомский колледж, основанный и руководимый монахами-ораторианцами, был закрытым учебным заведением, где воспитанники общим числом около двух сотен должны были жить по суровому, раз и навсегда заведенному монастырскому уставу. Наушничество и доносительство в стенах сего заведения процветали, а за малейшую провинность следовали порка или холодный каменный карцер. Друзей у Оноре было мало, что в таких условиях и неудивительно. Он предпочитал общество книг и скоро стал одним из завсегдатаев в библиотеке колледжа. Тогда же он попробовал писать сам (да кто же в этом возрасте не пробует?), однако его ранние творения вызвали только насмешки однокашников, давших ему прозвище Поэт. В 1814 году Бернара-Франсуа Бальса перевели служить в Париж. Времена были смутные, только-только пала империя, Бонапарт был пленен, и Франция вновь стала королевством, управляемым слабеющей рукой Бурбонов. Отец хотел, чтобы Оноре пошел по его стопам, что обещало ему достаточное финансовое благополучие и уважение в обществе, и он поступил в парижскую Школу права. Одновременно Бальса-старший позаботился и о том, чтобы его сын получал и соответствующую практику, устроив его письмоводителем в контору адвоката Гильоне де Мервиля. Втайне от родителей Оноре Бальса много времени проводит в местной библиотеке, прилежно изучая труды философов и историков, а также посещает лекции по литературе в Сорбонне. Занятия не прошли даром. Оноре стал знатоком в области биологии, медицины, экономики, истории, математики и оккультных наук. В 1819 году он окончил Школу права, успешно сдав выпускные экзамены. Отец его, который как раз вышел в отставку и переселился в городок Вильпаризи, что в предместьях Парижа, уже готов был пустить в ход все свои связи, дабы устроить сына на доходное место, но Оноре наотрез отказался от помощи, предпочтя карьеру литератора. Бернар-Франсуа был суров, но тираном не являлся. Он пообещал содержать Оноре еще в течение года. За это время сын должен был доказать отцу, что не зря выбрал литературу, и добиться определенных успехов и признания в обществе. Оноре согласился. Года, безусловно, оказалось недостаточно. Первое произведение Оноре, стихотворная трагедия «Кромвель», успеха не имело. Не понравилась оно и родителям, которые могли бы, конечно, поддержать сына, видя такое стремление к писательской деятельности. Однако, не усмотрев в его опусе ни капли таланта автора, отец отказал Оноре в поддержке. Тот съехал из дома и поселился в маленькой мансарде, расположенной в рабочем районе Парижа. В первое время ему приходилось очень тяжело. Он бедствовал и писал родственникам грустные письма о своей нелегкой доле. Вот одно из них, адресованное сестре: «Твой брат, которому суждена такая слава, питается совершенно как великий человек, иными словами, умирает с голоду». Тогда же он изменил фамилию. Его отец в шутку хвастался своим отдаленным родством со знаменитой древнегалльской рыцарской фамилией Бальзак д’Антрэг. Оноре Бальса превратил сказку в быль, начав подписываться как Оноре де Бальзак. После грандиозного провала стихотворной поэмы Бальзак обратился к жанру готического романа, очень популярного в те времена. За последующие 5 лет, сначала в соавторстве с опытным литератором Ле Пуатвеном де л’ Эгревилем, а впоследствии и самостоятельно, Оноре выпустил около десятка романов. Впрочем, ни славы, ни богатства они ему не принесли. Тогда Бальзак попробовал свои силы в качестве издателя. Дела шли не особо успешно, и для того, чтобы расширить сферу деятельности, а следовательно, повысить доходы, он купил типографию. И разорился окончательно. Не избежать бы ему долговой ямы, но тут на помощь пришли родители, не пожелавшие, чтобы такое пятно легло на репутацию их семьи. Впрочем, эта история, по-видимому, ничему Оноре де Бальзака не научила, поскольку до самого конца своей жизни он неоднократно влезал в долги, постоянно балансируя на грани разорения. В этот же период Бальзак встретил свою первую любовь. В 1822 году он, гостя у родителей в Вильпаризи, познакомился с мадам Лаурой де Берни. Любовь – чувство, конечно же, прекрасное и возвышенное, но беда была в том, что 45-летняя Лаура, родившая девятерых детей, годилась ему в матери. Впрочем, это дело личного вкуса. Да и сердцу, как говорится, не прикажешь. Мадам де Берни была замужем за представителем древней и знатной фамилии, сыном губернатора и советником имперского суда Габриэлем де Берни, зрение которого (а вместе с ним и характер) ухудшалось с каждым днем. Лаура отнюдь не была счастлива в этом браке. Анна Шарлотта Бальса, матушка Оноре, полагала, что сын увлечен дочерью Лауры, Эммануэль, которая была лишь на несколько лет моложе ее сына. Она уже начала строить планы, однако ее надеждам на скорое появление внуков было не суждено сбыться – к Эммануэль Бальзак был абсолютно равнодушен. Все свое время он посвящал Лауре. Конечно, поначалу женщина не поверила в искренность чувств Бальзака, но тот оказался настойчив, а письма его – красноречивы. «Как вы были хороши вчера! Много раз вы являлись ко мне в мечтах, блистательная и чарующая, но, признаюсь, вчера вы обошли свою соперницу – единственную владычицу моих грез», – писал он. И сердце мадам де Берни дрогнуло. «Не так уж я и стара», – видимо, решила она и уступила домогательствам настойчивого ухажера. Бальзак был счастлив. «О Лора! Я пишу тебе, а меня окружает молчание ночи, ночи, полной тобой, а в душе моей живет воспоминание о твоих страстных поцелуях! О чем я еще могу думать?.. Я все время вижу нашу скамью; я ощущаю, как твои милые руки трепетно обнимают меня, а цветы передо мной, хотя они уже увяли, сохраняют пьянящий аромат». Страсть их разгоралась, она была яркой, всепожирающей... и взаимной. Лаура де Берни сыграла решающую роль в жизни Бальзака. Впоследствии он писал: «Она была мне матерью, подругой, семьей, спутницей и советчицей. Она сделала меня писателем, она утешила меня в юности, она пробудила во мне вкус, она плакала и смеялась со мной, как сестра, она всегда приходила ко мне благодетельной дремой, которая утишает боль... Без нее я бы попросту умер». Все, что только может дать женщина мужчине, дала де Берни Бальзаку. Его литературные проекты рушились один за другим, он находился в состоянии перманентной депрессии, а она не бросала его, помогая и добрым, утешающим словом, и материально. Даже несмотря на то, что об их связи вскоре стало известно (шила в мешке не утаишь) и общество предало их порицанию, Лаура оставалась с Бальзаком. Их роман длился с 1822 по 1833 год, пока не затух потихоньку сам собой. Но и расставшись, они остались друзьями, ведя переписку до 1836 года, когда Лаура скончалась в своем поместье. Именно она стала прототипом госпожи де Морсоф в романе Бальзака «Лилии долины», причем сам Оноре отмечал, что этот «образ лишь бледное отражение самых малых достоинств этой женщины». Именно ей он посвятил эти бессмертные строки: «Ничто не может сравниться с последней любовью женщины, которая дарит мужчине счастье первой любви». Вообще, стоит отметить, что юные девицы его совсем не привлекали. «Сорокалетняя женщина сделает для тебя все, двадцатилетняя – ничего!» – говорил он. Дело, бесспорно, сугубо личное, однако именно благодаря этому увлечению писателя женщины между 30 и 50 годами стали называться «женщины бальзаковского возраста».
Следующим после Лауры де Берни увлечением Бальзака стала герцогиня д’Абрантес, вдова генерала Жюно. Он познакомился с ней в Версале в 1829 году. Эта женщина немало поспособствовала росту его популярности, введя Бальзака в салон мадам де Рекамье и в круг ее великосветских знакомых. Правда, связь их продолжалась недолго – генеральша была небогата. Впрочем, долг платежом красен, и писатель, пользуясь уже своими связями, помог д’Абрантес издать (а возможно, и написать) мемуары, что помогло той расплатиться с долгами. В дальнейшем они продолжали поддерживать дружеские и деловые взаимоотношения. В тот же период Бальзак увлекся другой женщиной – Зюльмой Карро. Увлекли его отнюдь не внешние данные – Карро была некрасива, да к тому же еще и хрома. Нет, его привлекло величие души этой несчастной женщины, бывшей замужем за управляющим порохового завода, чья военная карьера не удалась. Она не любила мужа, но глубоко уважала его за благородство и сочувствовала ему как человеку, сломленному неудачами, поддерживая его в тяжелые дни. Бальзака очаровало внутреннее величие Карро, ее удивительная способность к самопожертвованию. Он писал ей: «Четверть часа, которые я вечером могу провести у тебя, означают для меня больше, чем все блаженство ночи, проведенной в объятиях юной красавицы...» Но Зюльма не поддалась Бальзаку. Нет, не потому, что осознавала свою некрасивость – а она ее осознавала. Карро не хотела и не могла обманывать своего мужа, не хотела оставлять его, верная клятве «быть с ним в горе и радости». Они стали с Бальзаком друзьями. Обладая хорошим художественным вкусом и не боясь критиковать Оноре, она в немалой степени способствовала шлифовке его стиля. Он писал ей: «Ты – моя публика. Я горжусь знакомством с тобой, с тобой, которая вселяет в меня мужество стремиться к совершенствованию». Дружил Бальзак и с другой женщиной, являвшейся культовой личностью своего времени, – Жорж Санд. Он называл ее «братец Жорж». Они были хорошими, добрыми друзьями, но не любовниками, несмотря на то что список возлюбленных писательницы был довольно обширным. Видимо, Оноре де Бальзак полагал, что предметом коллекционирования не является. Он уже был известен, хотя богатым так и не стал. Стремясь заработать денег, он работал на износ – до 18 часов в сутки. Времени на устройство личной жизни постоянно не хватало, но ему этого и не требовалось: его личная жизнь устраивалась сама собой. Женщины сами искали знакомства со знаменитым писателем, забрасывая его письмами с приглашениями на свидание. Так, 5 октября 1831 года Бальзак получил письмо из Англии от маркизы Анриетты Мари де Кастри, дочери бывшего маршала Франции герцога де Мэйе, чья родословная восходила к XI столетию, и герцогини Фиц-Джемс, происходившей из рода Стюартов, следовательно, королевской крови. Тридцатипятилетней даме, не так давно пережившей роман, закончившийся весьма плачевно, захотелось интеллектуального общения. Дело в том, что некоторое время назад между маркизой и сыном канцлера Меттерниха вспыхнула страстная любовь, о чем судачили во всех салонах Лондона. Однако во время охоты де Кастри упала с лошади и сильно повредила спину, отчего большую часть времени была вынуждена проводить в постели или шезлонге. А вскоре и Меттерних скончался от чахотки. Бальзак, на которого громкие фамилии и титулы производили прямо-таки гипнотический эффект, решил добиться расположения этой несчастной женщины. Навестив ее во дворце де Кастеллан, он долго общался с ней. «Вы приняли меня столь любезно, вы подарили мне столь сладостные часы, и я твердо убежден: вы одни мое счастье!» – написал он ей впоследствии. Они становились все ближе и ближе друг другу, Бальзак навещал маркизу ежедневно, сопровождал ее в театр, писал ей письма, читал ей свои новые произведения, дарил рукописи... Одинокой и покалеченной женщине было приятно столь дружеское участие в ее горькой судьбе. Отнюдь не сразу заметила она, что то, что для нее является дружбой, для Бальзака – страсть. Поняв скрытую подоплеку его действий, Мари де Кастри устроила писателю полный афронт. Впрочем, по почте Бальзак познакомился с очень и очень многими своими возлюбленными, большинство из которых были более благосклонны к нему. В большинстве случаев известны только их имена – Луиза, Клер, Мари... А вот жениться Бальзак не стремился, как-то даже высказав такую точку зрения: «Гораздо легче быть любовником, чем мужем, по той простой причине, что гораздо сложнее целый день демонстрировать интеллект и остроумие, чем говорить что-нибудь умное лишь время от времени». Тут он, конечно, лукавил. Он не прочь был жениться на богатой и привлекательной женщине, тем самым решив все свои проблемы. Однако дамы хотя и соглашались завести с ним интрижку, отнюдь не спешили с ним под венец. Со своей будущей женой Бальзак тоже познакомился благодаря почте. 28 февраля 1832 года издатель Бальзака Госслен передал ему письмо с почтовым штемпелем «Одесса». Письмо было написано неизвестной читательницей, назвавшейся Незнакомкой. Чуть позже она прислала еще одно письмо, где просила сообщить о его получении через популярную в Российской империи газету «Котидьен», что Бальзак, которого вся эта история с таинственной незнакомкой заинтриговала, и исполнил. Имя загадочной корреспондентки после этого недолго оставалось тайной. Ею оказалась богатая польская помещица, подданная российской короны Эвелина Ганская, урожденная графиня Ржевусская. Умная и образованная женщина, она свободно владела французским, немецким и английским языками, однако в связи с преклонным возрастом и частыми болезнями ее супруга, Венцеслава Ганского, которому тогда было уже около 50 лет, она вынуждена была покинуть свет и отправиться с мужем в родовое поместье на Волыни, где они оба жутко скучали. Ей было тогда 30 лет. С начала 1833 года между Ганской и Бальзаком начался эпистолярный роман. «Вы одна можете осчастливить меня, Эва. Я стою перед вами на коленях, мое сердце принадлежит вам. Убейте меня одним ударом, но не заставляйте меня страдать! Я люблю вас всеми силами моей души – не заставляйте меня расстаться с этими прекрасными надеждами!» – писал он ей. Какая женщина устоит перед такими словами? Осенью того же года они встретились в Невшателе (Швейцария). Правда, она приехала туда с супругом, которому Бальзак был представлен и который был от знакомства с писателем в таком восторге, что большую часть времени Оноре был вынужден проводить с Венцеславом Ганским, а не с его супругой. Однако это не мешало ему всерьез увлечься Эвелиной, не только красивой и умной дамой, но и наследницей своего богатого мужа. После этой встречи он писал ей: «Во всем мире нет другой женщины, лишь ты одна!». В том же году, работая сразу над несколькими романами, Бальзак возвратился к своему давнему замыслу: соединить все свои романы в единую «Человеческую комедию». Забегая вперед, отметим, что стать автором одной, но очень большой книги ему так и не удалось. Из 143 запланированных им книг он успел написать только 90. Писал он обычно ночами, облаченный в белую сутану, служившую ему рабочей одеждой, при плотно закрытых шторах и свете свечей. Работал Бальзак на износ, по 10–18 часов в сутки, взбадривая себя невероятным количеством черного кофе. Нет, трудоголиком он не был, зная толк и в дружеских пирушках, и в иных развлечениях. Так, Ганской он писал: «Уже три года я живу целомудренно, как юная девушка», притом что за несколько дней до этого сестре сообщил, что в очередной раз стал отцом. Но богатство, к которому он стремился, так и не пришло к нему в руки. Конечно, его никак нельзя было отнести к числу бедных гениев, однако и по-настоящему богатым человеком он все еще не стал. Надежды соблазнить Ганскую он не оставлял, забрасывая ее письмами с самыми нежными словами. «Как же вы хотите, чтобы я вас не любил: вы – первая, явившаяся издалека, смогла согреть сердце, изнывавшее по любви! Я сделал все, чтобы привлечь к себе внимание небесного ангела; слава была моим маяком – не более. А потом вы разгадали все: душу, сердце, человека. Еще вчера вечером, перечитывая ваше письмо, я убедился, что только вы одна способны понять всю мою жизнь. Вы спрашиваете меня, как нахожу я время вам писать! Ну так вот, дорогая Ева (позвольте мне сократить ваше имя, так оно вам лучше докажет, что вы олицетворяете для меня все женское начало – единственную в мире женщину; вы наполняете для меня весь мир, как Ева для первого мужчины). Ну так вот, вы – единственная, спросившая у бедного художника, которому вечно не хватает времени, не жертвует ли он чем-нибудь великим, думая и обращаясь к своей возлюбленной? Вокруг меня никто над этим не задумывается; любой бы без колебаний отнял бы все мое время. А я теперь хотел бы посвятить вам всю мою жизнь, думать только о вас, писать только вам. С какой радостью, если бы я был свободен от всяких забот, бросил бы я все мои лавры, всю мою славу, все мои самые лучшие произведения на алтарь любви! Любить, Ева, – в этом вся моя жизнь!». Экий же лицемер... 25 декабря 1833 года они встретились вновь, и вновь в Швейцарии, в Женевском отеле «Дель Арк». Бальзак немедленно ринулся в атаку, и после четырех недель сопротивления Эвелина упала в объятия настойчивого ухажера. Бальзак даже обещал жениться на Ганской, как только она станет вдовой. Богатой вдовой, стоит заметить. Однако зацикливаться на Ганской Бальзак, этот охотник за приданым, не стал. В 1835 году он встретил английскую графиню Гвидобони-Висконти и начал развивать наступление еще и в этом направлении. Это была чувственная, очень красивая, хотя и несколько полноватая женщина, натуральная блондинка с непринужденными манерами, которая легко шла на флирт и благосклонно принимала восхищение ею. Бальзак моментально забыл о Ганской и ринулся на штурм, который удался. Связь его с графиней Гвидобони-Висконти продолжалась пять лет. Графиня любила Бальзака, родила ему сына, Лионеля Ришара Гвидобони-Висконти, в трудные для него дни она неизменно приходила ему на выручку, прятала его в своем доме от кредиторов, появлялась с ним в театре в одной ложе, наплевав на то, что скажут в свете. К счастью, муж ее не был ревнив, а свет видывал и не такое. Газеты во всю трубили о скандальной связи, и, естественно, Эвелина Ганская обо всем узнала. Она писала ему письма, полные горьких упреков, на которые Бальзак отвечал, что вся эта история – выдумки газетчиков, а он и Гвидобони-Висконти являются простыми друзьями. Что еще он, собственно, мог ответить? А графиня меж тем устроила ему поездку в Италию, полностью оплатив ее. Впрочем, сопровождала его не Гвидобони-Висконти, а некий молодой человек по имени Марсель. Нет, это не означало, что Бальзак пресытился женщинами и обратил свой взор на мужской пол. На самом деле Марселем была супруга крупного судейского чиновника, Каролина Марбути, переодетая в мужской костюм и коротко подстригшая свои густые черные волосы. С Каролиной Бальзак тоже познакомился по переписке! Затем они решили закрепить знакомство личной встречей, которая продлилась трое суток. Оноре де Бальзак столь сильно увлекся своей новой знакомой, что предложил ей отправиться с ним в путешествие. В Пьемонте газеты мигом раструбили о прибытии пишущей знаменитости, так что пребывание Бальзака в этой итальянской провинции превратилось в бесконечную череду приемов и балов, чем тот был несказанно доволен. Очень скоро и половая принадлежность Марселя перестала быть тайной. Однако вывод итальянцы сделали просто поразительный, приняв Каролину Марбути за знаменитую романистку Жорж Санд, которая коротко стриглась, курила сигары и носила штаны. Надо полагать, Бальзака, о чьих отношениях с «братцем Жоржем» уже упоминалось выше, эта ситуация изрядно позабавила. И вот наступил год 1841-й. Венцеслав Ганский умер, и Эвелина, которой он клялся в любви до гроба, стала свободна. Бальзак мигом вспомнил о том, что он, оказывается, всю жизнь любил одну ее и видел Ганскую во снах еще до их первой встречи. Предложение руки и сердца, несмотря на то что с каждым годом их отношения становились все холоднее и холоднее, последовало незамедлительно. Эвелина дала Бальзаку решительный отказ. Впрочем, даже согласись она стать его женой, осуществить это желание было бы отнюдь не так легко, как может показаться. По действующему на тот момент законодательству Российской империи санкцию на вступление в брак с подданным иностранной короны и вывоз за границу родового состояния давал сам Его Императорское Величество. Ну и родственники Ганской, которые (совершенно обоснованно) видели в Бальзаке обычного охотника до чужих денег, ставили палки в колеса. Однако трудности не устрашили писателя. В июне 1843 года Бальзак, сам поверивший в свою любовь, выехал из Парижа к Ганской в Петербург, где поселился в доме, расположенном напротив. Все лето Бальзак провел в России, обхаживая Эвелину, возвратившись на родину только осенью. Дома он вновь погрузился в творчество, работая так много, как никогда в жизни. Тем временем здоровье его, расшатанное бессонными ночами и невообразимыми порциями кофеина (недоброжелатели прибавляли – и половой невоздержанностью), быстро начало ухудшаться. К 1845 году Бальзак наконец-то обрел долгожданное благосостояние. Нет, писательский труд не сделал его богатым как Крёз, однако же он вполне мог считать себя человеком весьма состоятельным. Бальзак купил дом в Париже, стал собирать картины, покупать дорогую мебель и разные ценные безделушки. Теперь он мог заткнуть рты злоязыким родственникам Ганской. В том же году Оноре де Бальзак встретился с Эвелиной в Дрездене. Оттуда он отправился в качестве ее спутника в Италию и Германию, показывал ей Париж. В сентябре 1847 года, уже больной и несчастный, Бальзак отправился в поместье Ганской, расположенное в Верховне, что в 60 километрах от Бердичева. Эвелина, в которой Бальзаку удалось разбудить былые чувства к его персоне, все еще не могла решиться на замужество. К тому же она опасалась потерять свои украинские поместья. В тот раз она не дала писателю никакого ответа. Впрочем, скоро она сама выехала в Париж. Об этом ее пребывании во французской столице почти ничего не известно. Что она делала, где бывала – тайна за семью печатями. Впрочем, за это время у них с Бальзаком успел появиться и умереть в младенчестве ребенок – девочка. Затем Ганская покинула Париж и вернулась в родовое имение. В сентябре 1848 года Бальзак вновь поехал к Эвелине – в Верховню. Он уже был очень болен. Тахикардия, аритмия, боли в сердце, удушье – вот далеко не полный перечень его немочей. Писать он уже не мог, хотя пытался. Эвелина сжалилась над ним и сказала «да». 14 марта 1850 года состоялось венчание Бальзака с Ганской в костеле Святой Варвары в городе Бердичеве. Молодожены отправились в Париж. Бальзак наконец-то был счастлив. Своему старому другу Зюльме Карро он написал: «Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь у меня будет самое солнечное лето и теплая осень». Но брак этот не стал ни долгим, ни счастливым. Приданое Ганской оказалось не столь велико, как рассчитывал Бальзак, а он сам... Он не полностью расплатился за дом, влез в долги, покупая разнообразные предметы роскоши, и был практически полным банкротом. Здоровье его ухудшалось с каждым днем. 18 августа 1850 года он скончался, оставив свою вдову наедине с кредиторами. Фёдор Михайлович ДостоевскийПо сей день читающий Запад привлечен загадкой феномена Достоевского, и не случайно. Его творчество – вглядывание в глубокий колодец, который хранит тени и блики человеческой души, куда западное сознание не рискует самостоятельно погружаться. Как известно, если вглядываться в воду, можно увидеть свое отражение. Фёдор Михайлович смотрел и видел отражение, которое то двоилось (не зря в его творчестве столько двойников), то распадалось на отдельные фрагменты, то складывалось в целое. Жизнь писателя можно назвать трагической, и началась она так. В 1821 году, 11 ноября, в стенах московской Мариинской больницы для бедных, там, где всегда присутствует боль и страдание, в месте, оказавшемся в какой-то степени символическим, родился будущий писатель. Это было первым сильным переживанием, положившим начало последовательности потрясений, утрат и гениальных прозрений, впрочем, оно скоро забылось. Отец Фёдора Михайловича Достоевского, лекарь упомянутой больницы, был человеком в целом положительным, хотя в его характере присутствовали и тяжелые черты. Его вспыльчивость порой доходила до нервных срывов, требовательность и подозрительность – до болезненной мнительности. Эти свойства характера сочетались с обидой на жизнь. Будучи сыном священника и относясь к бедному дворянству, он имел большие амбиции, был не доволен своей карьерой. Удача отказывалась ему улыбаться. Деньги, которые Достоевский-старший зарабатывал, доставались с трудом, их еле хватало, а ему нужно было содержать семью из 8 человек (у Достоевских было шестеро детей), обеспечивать проживание в двухкомнатном флигеле при больнице и содержать нескольких слуг. Несмотря на тяжелый нрав, Михаил Андреевич любил своих детей и старался воспитывать их правильно, а именно в послушании и строгости. Живой и подвижный Федя (слишком подвижный, каким считал его отец), как и все в семье, безоговорочно подчинялся строгим правилам дисциплины, которые касались каждой мелочи домашнего быта. Мать будущего писателя почитала своего мужа, не перечила ему, умея как-то смягчить тиранические его черты, помогала преодолевать меланхолию. Искренне любя супруга и детей, она успешно справлялась с хозяйством. Сохранились ее письма к Михаилу Андреевичу, полные наивной преданности и любви, раскрывающие поэтичность ее души и литературные дарования. Мария Фёдоровна, урожденная Нечаева, происходила из знатной и состоятельной семьи московских купцов, откуда унаследовала практичность и «веселость природного характера». Она была энергична, умна, добра и нежна с детьми, которые мать очень любили, в том числе и маленький Фёдор. От матери он унаследовал доброту и сострадательность. Частые роды надорвали ее здоровье, и она заболела туберкулезом. У Достоевских царила обстановка консервативности и богобоязненности. Страх и почтение перед отцом, строгое пуританское настроение. Без провожатых детей одних никуда не выпускали, до 17 лет Фёдор не имел карманных денег, а в пансион Чермака, где учились мальчики, их возили в карете, принадлежавшей семье. После того как в 1828 году Михаил Фёдорович получил дворянское звание, в 1831 году с большим напряжением было куплено имение Даровое (хозяйство шло не слишком хорошо и требовало выплат долгов), куда 10-летний Федя со своими братьями и сестрами отправлялся каждое лето. Мальчик был заводилой всех игр, проявляя азарт, яркий темперамент и фантазию. Здесь им предоставлялась возможность общаться с деревенскими детьми, набираться впечатлений от наблюдений за деревенским людом, но ни на минуту не удавалось выйти из-под контролирующего отцовского или материнского взгляда, следящего за нравственной непогрешимостью своих чад. Ежегодно детей возили в Троице-Сергиеву лавру, где они изучали Писание. Писатель вспоминал: «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства». Вслух читались такие книги, как «История государства Российского» Н. М. Карамзина, книги А. С. Пушкина, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского. Отец был прижимист и расчетлив, но на учение детей денег не жалел. Обучал сам, нанимал учителей, а с 1833 года они начали обучение в пансионе Драшусова (Сушара), позже в пансионе Чермака. В новой, непривычной обстановке Фёдор замкнулся. Недоброжелательность, насмешки сверстников из-за отсутствия у мальчика манер, знатного имени и денег оказались сильной моральной травмой. Его нервная система, будучи от природы чрезвычайно восприимчивой и ранимой, страдала от эмоциональных перегрузок. Создавались предпосылки будущей болезни (Достоевский страдал нервным расстройством, сходным с эпилепсией). Истоки всякого характера созидаются в семье, в детские годы. На наследственные черты накладываются образцы поведения, которые дети списывают с родителей: девочки – с матери, мальчики – с отцов. Не имея опыта обращения с деньгами, Фёдор впоследствии так и не научился организовывать эту сферу жизни. Не имея перед глазами отцовского примера способности и умения гармоничного общения с людьми, он впитал то, что было. Сходные стереотипы поведения – мелочность, мнительность и крайняя степень раздражительности – были присущи и отцу, и сыну, однако скупость отца преобразилась в сыне в манеру мгновенно растрачивать все деньги, хотя он постоянно пребывал в беспокойстве, что останется без средств к существованию. Фёдор мог утром получить солидный гонорар, на который должен был бы жить несколько месяцев, а к вечеру оказаться без гроша. Он мог взять деньги у ростовщика под немыслимые грабительские проценты. Когда Достоевскому было 15 лет, болезнь матери подошла к критической черте. Она умирала. В душе у Фёдора навсегда остался мучительный образ тонкой руки с голубой жилкой и слитое воедино чувство щемящей жалости, любви и увядающего женского начала. Доктор Достоевский после смерти жены отвез мальчиков Фёдора и Михаила в петербургское Инженерное военное училище. При всей строгости воспитания в семье Фёдор был окружен заботой и любовью, а здесь царила обстановка бюрократизма, муштры и шагистики, были там и отдельные черты дедовщины. Среди насмешек, сопровождающих новеньких, юноша еще больше замкнулся, был робок и неловок. Позже у него появился приятель К. Трутовский, ставший в дальнейшем известным художником. По его впечатлениям, Достоевский был в то время (1838 год) угловат и не умел носить одежду, она всегда сидела мешком. При внешней угрюмости и нелюдимости чувствовалась доброта. Иногда он казался смешным на фоне благополучных и самоуверенных дворянских сынков, однако, когда речь заходила о литературе, его дарования ярко проявлялись. Он умел увлечь других соучеников рассуждениями о творчестве Пушкина, Шиллера, Байрона. Перед Пушкиным Достоевский благоговел и после его кончины попросил, чтобы отец разрешил ему носить траур. Летом 1839 года юношу потрясла ужасная весть: в деревне взбунтовавшиеся крестьяне убили его отца. Обстоятельства его гибели были настолько страшными, что (по данным некоторых историков) с Фёдором Достоевским произошел первый серьезный припадок эпилепсии. Когда его жена умерла, доктор Достоевский, выйдя в отставку, переехал в деревню, где жил вместе со своей бывшей служанкой Катериной Александровой. Он запил. Жестокость в обращении с крестьянами, его подозрительность и вспышки безудержного гнева, порки по каждому поводу – все это спровоцировало крестьян устроить заговор. Они под руководством Ефима Максимова, дяди сожительницы барина, после того как Достоевский, обезумев, яростно начал обвинять их в чем-то, набросились на него и убили. Официальное расследование дало заключение: отставной штаб-лекарь Михаил Достоевский умер от апоплексического удара, но родные и все соседи знали правду об обстоятельствах, после которых искалеченное тело было обнаружено в роще. Венский психиатр и психотерапевт Фрейд, анализируя влияние этой ситуации на Фёдора Михайловича, объяснял, что, горячо любя мать, юноша неосознанно желал смерти отцу, ревнуя его к матери. Он почти всю жизнь пронес подсознательное чувство вины. В момент, когда его желание осуществилось, он пережил ужас и раскаяние в своих тайных чувствах. Этот эдипов комплекс сказался в дальнейшем в его жизни и творчестве, выражаясь в разных формах восстания против авторитетов, будь это Отец Небесный, государь-батюшка или его родной отец. Многие его герои прошли мучительный путь изживания этого комплекса через покаяние и принятие всех форм отцовской власти со смирением и благодарностью. В «Братьях Карамазовых» мощно звучит тема восстания против отца и отцеубийства. Спор с судьбой – еще одна грань проявления попытки свергнуть авторитеты, и проявилась она позже страстью к рулетке. Оставшись сиротой, Достоевский должен был самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Не находя в Инженерном училище того, что его волновало, он мечтал о творчестве, о литературе. Внутренний мир юноши был переполнен яркими образами, впечатлениями, его пробуждавшаяся мысль требовала выхода. Он вынашивал первые литературные замыслы. Достоевский был молод, и жизненная энергия творчества прорывалась в попытках писать романы и драмы, он спорил с товарищами на литературные темы, проявляя остроумие и большую начитанность. Из Ревеля приехал его брат Михаил. Все было готово к литературному вечеру, на котором присутствовали товарищи Достоевского, увлеченные идеями справедливости и будущего счастья человечества. В казенных стенах звучал вдохновенный голос. Все слушали Достоевского, он читал отрывки из своих драматических произведений «Борис Годунов» и «Мария Стюарт». Это было время мечтаний и прекрасных идеалов. Тогда молодой писатель зачитывался Гоголем, Гофманом, Жорж Санд и Гюго. В 1843 году в звании подпоручика Достоевский начал служить в Петербургской инженерной команде при чертежной. Понятно, что военно-бюрократическая карьера не могла вдохновлять такого творческого человека, как Достоевский. Не прослужив и года, он подал в отставку. Свобода встретила юношу широким кругом возможностей и пустым кошельком. На полученные от опекуна деньги он снял квартиру и стал усиленно заниматься первыми литературными опытами. В квартире был жуткий беспорядок. Деньги, которые у него периодически появлялись, уплывали в неизвестном направлении. Доктор Ризенкампф, приятель брата Достоевского, решил поселиться с Достоевским и помочь молодому писателю преодолеть свою несобранность, но расчетливый и пунктуальный немец убедился в тщетности всех попыток образумить своего талантливого соседа. Писатель давал деньги неимущим пациентам доктора, переплачивал огромные деньги за билеты, чтобы попасть на концерты Листа или на спектакль «Руслан и Людмила». Однажды Ризенкампф простудился. Недолго думая, Достоевский потащил больного доктора в любимый ресторан Лерха и накормил его таким шикарным обедом с шампанским и вином, с дичью и другими деликатесами, что ошеломленный Ризенкампф полностью выздоровел. Обратная сторона такой жизни была в том, что после театров и ресторанов частенько приходилось сидеть на сухарях и молоке, а в зимнюю стужу к тому же без отопления, на которое не хватало денег. Показателен случай, когда Фёдор Михайлович получил сумму в тысячу рублей, а уже наутро изумил Ризенкампфа просьбой одолжить ему пять рублей. Деньги он проигрывал в домино и бильярд. Достоевский был совершенно равнодушен к алкоголю, на дружеских пирушках пил только пиво и легкое вино, избегая крепких напитков. В этот период он страдал желудочными болями, простудой и нервными судорогами. Достоевский стал завсегдатаем кабаков и трактиров. Он приходил туда погреться и сидел часами. Его окружала пестрая публика, которая в основном состояла из пьяниц, картежников, разного рода неудачников и прощелыг. В общем, это был бедный городской люд. После дружеских пирушек бывал он и в публичных домах. Что же заставляло такого человека, как Достоевский, идти в столь злачные места? Можно с уверенностью сказать, что здесь он наблюдал нравы и типажи, характеры и судьбы. Все это шло в копилку для его литературной деятельности, здесь складывались образы будущего романа «Бедные люди». Это произведение Достоевского – первое крупное детище – в полном смысле было им выстрадано. Он писал и переписывал, исправлял и улучшал, терпя нужду, нездоровье и одиночество, но все же чувствуя свое предназначение, веря в свой талант. И вот однажды, майской ночью 1845 года в 4 часа утра, к писателю буквально ворвались двое. Это были его сосед по квартире Григорович и поэт Некрасов. Оказывается, накануне Григорович показал Некрасову рукопись романа «Бедные люди». Всю ночь они читали ее. Роман произвел на поэта такое сильное впечатление, он так был взволнован, что не мог дождаться утра дома и немедленно отправился к Достоевскому, несмотря на увещевания Григоровича. Некрасов взволнованно обнял Достоевского, выражая свое восхищение. Молодой писатель так нуждался в поддержке, и он ее получил сполна. К Достоевскому пришла слава. Многими годами позже Фёдор Михайлович признавался: «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни». Некрасов показал роман В. Г. Белинскому, произнеся: «Новый Гоголь явился!». Белинский же, очень высоко оценив произведение, в разговоре с Анненковым сказал: «...Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому». Словом, роман Достоевского был восторженно воспринят кружком Белинского, всей литературной элитой того времени, вызвал споры. Писателю предрекали великое будущее. «Бедные люди» были напечатаны в 1846 году в «Петербургском сборнике», который издавал Некрасов. Это давало не только известность, но и деньги, заработанные литературным трудом. Теперь положение Достоевского изменилось: ему открылась возможность войти в петербургские салоны, в кружок Белинского. Там он познакомился с В. Ф. Одоевским, И. С. Тургеневым и И. И. Панаевым. Светский литератор Панаев был женат на умной и хорошенькой Авдотье Яковлевне. Достоевский влюбился в нее с первого взгляда. Это была кокетливая стройная брюнетка с яркими карими глазами, с правильными чертами красивого лица. Она постоянно была окружена мужским вниманием, и особенно активно выражал ей свое восхищение Некрасов. 1 февраля 1846 года Фёдор Михайлович говорил своему брату: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено, я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической». Безнадежно влюбленный молодой человек нещадно страдал и от того, что интерес к его творчеству быстро иссяк. Белинский, сначала благосклонно приняв следующее произведение Достоевского, повесть «Двойник», позже разочаровался в ней. В их отношениях наметилось охлаждение, оно передалось и всем, кто окружал великого критика. Раздражительность, высокомерие, с каким вел себя молодой писатель, служили хорошей мишенью для насмешек. Сохранились воспоминания Панаевой об этом периоде: «С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передвигались». Дальше она вспоминала: «По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте». Все это подзадоривало «раздражать его самолюбие уколами в разговорах, особенно на это был мастер Тургенев, он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался». Достоевский растолковал подобное отношение как зависть к его таланту. Конечно, ему было труднее переносить насмешки литераторов от того, что все это происходило в присутствии любимой женщины, к тому же относившейся к нему лишь снисходительно. Болезненная мнительность усилилась, а с ней вновь проявила себя эпилепсия, которая периодически возобновлялась у него в течение жизни. Опять остро встал вопрос добывания денег. Написанная им поэма «Двойник» не принесла нетерпеливо ожидаемого успеха. Ни критика, ни публика не приняли ее. Достоевский перебивался маленькими гонорарами за небольшие литературные работы, печатавшиеся в периодических изданиях. Долги, неустроенность, слишком маленькие суммы гонораров – все это действовало удручающе. Нищету уже стало трудно скрывать. Порой тучи над ним так сгущались, что он испытывал острое желание забыться. Некоторое облегчение он находил в притонах и кабаках, азартных играх и с женщинами, но потом мучался стыдом и раскаянием. Тогда он спасался, уходя в мечты о «прекрасном и высоком». Контраст между тяготами социальной и политической действительности, с одной стороны, и моральными идеалами, с другой, привели писателя к сближению с кружком братьев Бекетовых, куда входили также Григорович, Плещеев, Майковы. Это было в 1847 году, а весной того же года он познакомился с петрашевцами и стал посещать их «пятницы». Позже, в 1847–1849 годах, он начал ходить на собрания кружка С. Ф. Дурова, где также собирались многие петрашевцы. В этот период господства крепостничества и мрачной реакции происходили жаркие споры западников и славянофилов, зарождалось либеральное мировоззрение. В кругах, к которым стал близок Достоевский, происходили споры о проблемах народа и власти, о том, как они видят дальнейшее развитие и назначение русской культуры. Обсуждения не могли не касаться жгучих вопросов социального, политического и экономического устройства государства. Достоевского увлекали гуманитарные идеи. Боль от страданий народных, понимание всей уродливости крепостничества, вера в великое предназначение России – все это сближало писателя с петрашевцами. На собраниях вслух читали и обсуждали труды Сен-Симона и других французских социалистов, статьи Герцена и крамольное письмо Белинского к Гоголю. Оно содержало обвинения писателя в подчинении церковности, верноподданичестве самодержавию и рабстве. Достоевский на одном из собраний выступил с вдохновенной речью, в которой звучали призывы к братству, вольности и справедливости. Многие, тронутые его красноречием, плакали. Тогда никто не подозревал, что среди слушателей присутствует агент Третьего отделения. Арест не заставил себя долго ждать. 23 апреля 1849 года арестованный Достоевский был препровожден в Александровский равелин Петропавловской крепости. Вместе с ним были арестованы и другие петрашевцы. Восемь долгих месяцев пришлось прожить в тюрьме петрашевцам. Им всем грозила смертная казнь. Несмотря на обострившиеся нервные и желудочные болезни, Достоевский проявил много мужества, никого из товарищей не выдал. Тогда им был написан рассказ «Маленький герой». Писатель был назван виновным в «умысле на ниспровержение... государственного порядка». Утром 22 декабря 1849 года на Семёновском плацу должна была состояться экзекуция. В центре площади, оцепленной войсками, стоял деревянный помост. В одних рубашках, без верхнего платья стояли осужденные. До сознания Достоевского доносились страшные слова приговора: «Достоевский Фёдор Михайлович... в преступных замыслах и распространении письма литератора Белинского... и за покушение... лишен всех прав состояний... к смертной казни расстрелянием». После того как всех осужденных обошел священник с крестом, Петрашевского, Григорьева и Момбелли одели в саваны, привязали к столбам. По сигналу офицера взвод вскинул ружья, но вдруг – взмах белого платка, и казнь остановлена. Оказывается, повелением императора Николая I было: «Объявить о помиловании лишь в ту минуту, когда все будет готово к исполнению казни». На протяжении этих «ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти» писатель смотрел на золоченые купола собора. В этот момент солнце засияло из-за туч, купола озарились ярким светом, а Достоевский все смотрел и думал, что вот сейчас он сольется с этим светом навсегда. (Этим тяжелым воспоминанием Фёдор Михайлович делился в 1865 году с сестрами Корвин-Круковскими. Одна из них, Анна, была его невестой, а другая, Софья, впоследствии стала носить фамилию Ковалевская.) Казнь была заменена 4 годами каторги с лишением «всех прав состояния». Вскоре Достоевского, закованного в тяжелые кандалы, в санях повезли через всю Россию в Сибирь. Его ждали жестокие годы каторги в Омской крепости, тяготы совместного проживания с уголовными преступниками. Фёдор Михайлович вспоминал: «Это было страдание невыразимое, бесконечное... всякая минута тяготела как камень у меня на душе». Трудно представить, как такой тонкий, нервный и болезненно впечатлительный человек смог перенести эти 4 года каторги, но он выжил и был переведен в Семипалатинск в январе 1855 года. То, что с ним произошло, было не просто кризисом, это было даже больше, чем катастрофа. Смотреть в глаза смерти, ждать ее, взамен гибели получить долгие страшные мучения этапов, каторжной тюрьмы, потерять всякую возможность писать, лишиться звания дворянина и тех небольших привилегий, которые у него были до ареста... Это было великое банкротство еще и потому, что либеральные идеи, идеи утопического социализма, приведшие его на Семёновский плац, были писателем пересмотрены и отброшены. Чем старше он становился, тем дальше от них удалялся. В1854 году Фёдор Михайлович Достоевский был уже другим человеком. Он даже изменился внешне: теперь это был 33-летний коренастый мужчина в солдатской форме из грубого сукна. Ничего дворянского, интеллигентского в нем не было. Типичное лицо русского человека: широкий лоб с мощными надбровными дугами, острые глаза (они были разного цвета), глубоко сидящие в глазницах, борода лопатой и усы, почти скрывающие тонкие сжатые губы. Чем-то он был похож на простолюдина. (Не случайно по приезде в Петербург не знакомые с ним светские литераторы принимали его за денщика.) Достоевский и вправду приблизился к народу: побывав в его недрах, он вышел на новый уровень осознания народной стихии, уже без прикрас и идеализаций. Пережив духовный катарсис, Фёдор Михайлович пришел к принятию идей христианского гуманизма, необходимости веры. Теперь он связывал дальнейшие пути развития России не с революционными преобразованиями, а с совершенствованием душ человеческих, с религией милосердия и всепрощения. Итак, разжалованный в солдаты, без права покидать Семипалатинск, Достоевский все же очень хотел жить. Он познакомился с супругами Исаевыми. Александр Иванович – бывший учитель гимназии, ныне разжалованный, сильно пил. Марья Дмитриевна была красивой худощавой блондинкой 28 лет. Довольно образованная, впечатлительная и хрупкая, она обладала неуравновешенным характером. Своей нежностью и болезненностью она напоминала Достоевскому мать. Ее жизнь была тосклива, и она потянулась к Фёдору Михайловичу, сочувствуя ему и нуждаясь в сострадании сама. Муж беспросветно пил, а у нее на руках был сын Паша. Будущее представлялось ей безотрадным. Фёдор Михайлович же был счастлив находиться рядом с ней. «Я не выходил из их дома. Что за счастливые вечера я проводил в ее обществе. Я редко встречал такую женщину», – таковы впечатления писателя, нашедшего горячее участие в его положении. Их роман был долгим и мучительным. Он осложнялся ее экзальтированностью и переменчивостью, с одной стороны, его ревностью и невозможностью быть вместе, с другой. После смерти Исаева (к тому времени Марья Дмитриевна жила в Кузнецке), писатель сделал ей предложение. В ответ на ее жалобы и переживая за молодую женщину, оставшуюся без средств к существованию, Достоевский всюду занимал деньги, чтобы послать в Кузнецк, но его материальное положение было гораздо хуже, чем у Марьи Дмитриевны, которой помогал ее отец. Несмотря на то что с помощью сочувствующего ему молодого прокурора Семипалатинска Врангеля Достоевского произвели в унтер-офицеры и социальный статус писателя повысился, он все же оставался под наблюдением полиции как бывший каторжник, лишенный дворянства. Покидать город ему воспрещалось, денег практически не было (те крохи, на которые он существовал, посылали ему родные), а служить оставалось еще три года. В довершение всего у Достоевского образовался долг в одну тысячу рублей. Это был абсолютный тупик. 1 октября 1856 года Достоевский был переведен в прапорщики, вместе с тем он получил и некоторые права. В 1857 году ему вернули дворянское звание и право печатать свои произведения. 6 февраля Фёдор Михайлович обвенчался с Марьей Дмитриевной. Этот брак не принес ему долгожданного счастья. После всех треволнений Достоевский наконец смог приступить к реализации своих творческих замыслов. Его писательское самолюбие требовало вернуться в литературу произведением, по силе не уступающим «Бедным людям». Им были написаны повесть «Дядюшкин сон» и роман «Село Степанчиково и его обитатели». В 1859 году в «Русском слове» был напечатан «Дядюшкин сон». Ответом на него явилось полное молчание критики. Достоевский возлагал надежды на роман, но издатель Катков отказался его печатать, требуя вернуть аванс в 500 рублей. Следом за Катковым Некрасов, редактор «Современника», поставил такие невыгодные условия, что они казались просто унизительными Фёдору Михайловичу. Но наконец издатель «Отечественных записок» Краевский напечатал «Село Степанчиково» в 1859 году. И снова молчание литературной общественности. Этот замечательный роман был высоко оценен несколько позже, после выхода статьи Михайловского «Жестокий талант». Статья вызвала много споров, и в конечном счете современники смогли разглядеть и по достоинству оценить не только юмор и иронию, но и утонченный психологизм, и новые приемы театрализации действия и литературный подтекст. 1859 год принес писателю разрешение переехать в Тверь, так как он вышел в отставку по болезни. Срок его наказания по приговору истек. Марья Дмитриевна давно страдала от отсутствия нарядов и приемов, она скучала. После тягостного дня, проведенного на службе, дома его ждали скандалы и обвинения в безденежье, сцены беспредметной ревности. Фёдор Михайлович описал подобное состояние в «Униженных и оскорбленных»: «...Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми... У женщин, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий». Достоевский тоже ревновал, раздражался. Постепенно к писателю приходило осознание семейного банкротства. Тверь разочаровала обоих супругов, разобщенность их усилилась. Внутреннее одиночество Достоевского утоляла лишь писательская работа. Марья Дмитриевна страдала от чахотки все больше и больше. Достоевский изнемогал от жалости к ней. В декабре было получено разрешение на проживание в Москве и Петербурге. Оно означало для Достоевского возможность влиться в литературный поток, почувствовать свою сопричастность к общественно-политической жизни России. За это время произошли перемены. В России начались реформы суда, освобождение крестьянства, нововведения коснулись торговли, образования и практически всех сфер как социальной, так и экономической деятельности. Это событие – переезд Достоевских в Петербург – произошло в 1860 году. Писатель сразу же включился в активную деятельность. Вместе с братом Михаилом он стал издавать журналы «Время» и «Эпоха». В этот период вышло много его статей полемического, литературно-критического характера, публицистики, и, конечно, он писал художественные произведения. Теперь у писателя было много встреч, новых знакомств с людьми разных интересов и профессий. Популярность его росла, и Достоевский наконец-то занял достойное место среди русских писателей и видных деятелей общественной жизни. Работа отнимала у него много времени, но работал он с удовольствием. За два года после его приезда в Петербург им было написано свыше 1600 страниц. Фёдор Михайлович напечатал «Записки из мертвого дома», «Униженные и оскорбленные». Эти произведения не остались незамеченными. Критика оценила гуманистический пафос и новую художественную манеру углубленного психологического анализа, хотя и отмечала хаотичность композиции и излишнее мелодраматизирование. Но написанную позже повесть «Записки из подполья» приняла безоговорочно. В. В. Розанов назвал ее «краеугольным камнем в литературной деятельности». Достоевский стал получать гонорары. Конечно, он занимался и литературной поденщиной, и редактированием, и выступал на литературных чтениях, словом, брался за всякую работу, которая была ему интересна и давала средства к существованию. Казалось, судьба не только дала ему шанс вынырнуть из пучины бедствий, неудач и нищеты, но и подняла на значительную высоту, наградив признанием, адекватным таланту. На самом деле, чтобы прийти к настоящей гармонии, Достоевскому предстояло сделать еще один круг головокружительных спусков и подъемов. Личного счастья и семейного благополучия у писателя не было. Болезнь Марьи Дмитриевны не позволила оставаться в сыром Петербурге, и она жила то в Твери, то во Владимире, лишь иногда возвращаясь в Северную столицу. Ее чахотка прогрессировала, лечение требовало докторов и лекарств. Большая доля средств расходовалась на это. Деньги уходили и на обучение Паши, на оплату долгов, отработку авансов, на бытовые нужды, на поездки за границу, а известная беспомощность писателя перед планированием и экономией денежных средств сводила на нет его заработки. Но было еще одно роковое обстоятельство, властно вмешавшееся в жизнь Фёдора Достоевского. В петербургской студенческой среде ощущался подъем. Молодежь готова была ниспровергать старые авторитеты морали, жаждала перемен. Нигилизм и радикализм новой интеллигенции Достоевский не принимал, он полемизировал с носителями позиции нигилистской рассудочности и утилитаризма. Писатель искал Бога, его привлекала сложная жизнь души в свете идеалов христианства. Похоже, он уже прошел эту дорогу восстания, и она, проведя через эшафот, вывела его скорее к монархизму, чем к революции. Но молодежь еще не знала этого, для нее Достоевский оставался жертвой царизма. Восторженно глядя на мученика, бывшего петрашевца, она рукоплескала писателю на литературных слушаниях, где звучали отрывки из «Записок из мертвого дома», его воспоминания о тюрьмах и каторге. На одном из таких публичных чтений к нему подошла молодая (ей было 22 года) женщина очень привлекательной наружности и протянула письмо, в котором открывала свои восторженные чувства к Фёдору Михайловичу. Достоевский был взволнован, ответил ей, и они стали видеться. Аполлинария Суслова не обладала литературными талантами, но имела привлекательную внешность, очарование молодости и незаурядные личностные качества. Разница в возрасте была в 20 лет, но это только придавало остроты их отношениям, которые бурно развивались. Надо сказать, что Аполлинария была дочерью бывшего крепостного графов Шереметевых, который смог не только выкупить свою семью, но и стать зажиточным купцом, а впоследствии и собственником фабрики благодаря своему уму и энергии. В дочери видны были многие качества Прокофия Суслова. Стойкость ее характера, сочетание женственности и силы, что-то типично русское – все это было ново для Достоевского и необыкновенно привлекало его. В ней были максимализм и воля, свойственные представителям нового поколения, с которыми она отстаивала свободу от всяческих уз. Сильная натура, она была готова идти до конца в своих убеждениях. В Достоевском она чувствовала громадный масштаб его дарования. Ее привлекали ум, неординарность личности Фёдора Михайловича, да и самолюбию ее льстило, что такой известный писатель влюблен в нее. Их роман развивался сложно, проходя разные этапы. Марья Дмитриевна ничего об этом не знала. Достоевский мечтал уехать за границу, где его ждала Аполлинария, но неожиданно 25 мая 1863 года власти закрыли его журнал «Время», усмотрев недопустимую крамольность в одной славянофильской статье. Хлопоты не дали результатов, а кредиторы требовали вернуть деньги. Возникли проблемы с оплатой сотрудников и подписчиков. Денег на поездку в Париж не было, и пришлось брать в долг, соглашаться на невыгодные условия и брать деньги под еще не написанные работы. Фёдор Михайлович смог выехать только в августе. У него созрел план. По пути в Париж он остановился в Висбадене и пошел в казино. Он попытался выиграть необходимые ему деньги, положившись на фортуну, которая до сих пор так мало выражала сочувствия к его бедственному материальному положению. Но, кроме насущной нужды в деньгах, им руководила давняя страсть к игре. Достоевский играл четыре дня. В эти дни он забыл о кредиторах, умирающей в Москве жене, о литературном творчестве и о молодой женщине, ради которой он был сейчас здесь. «Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл, и таким образом еще раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный». Эта история, рассказанная от лица главного героя романа «Игрок», могла бы прямо относиться к писателю, но Достоевский выиграл, выиграл поединок с судьбой, так ему казалось. В его кармане лежало более 5 тыс. франков. Он сумел совладать с собой в критическую минуту и покинуть рулетку, когда начал терять (и потерял) сумму в 5 тыс. из 10 выигранных. Он чувствовал какое-то освобождение, как будто сбросил с себя тяжесть и спешку всего последнего года. Эта эмоциональная встряска, страшная сосредоточенность, не терпящая ничего постороннего, закончилась. После недолгого отдыха Достоевский почувствовал себя заново рожденным. Ожидание скорой встречи и любовь вели его в Париж, но судьба опять посмеялась над ним. Аполлинария, его Поля, больше не любила его. В отсутствие Достоевского она познакомилась со студентом-медиком испанского происхождения, Сальвадором. Неожиданно вспыхнули ее чувства к нему, но студент скоро начал ее избегать, а затем бросил. Это был оглушительный удар для Фёдора Михайловича. Он не уехал, а остался путешествовать вместе с Сусловой, так как она его не гнала, но и не подпускала тоже. Их отношения представляли собой видимость дружбы, но на самом деле являлись какой-то изощренной формой издевательства. 6 сентября 1863 года они приехали в Баден-Баден. Там, в игорных залах, у рулетки он оставил все наличные деньги в течение двух дней. В Россию полетело письмо с просьбой о 100 рублях из тех денег, которые он выслал жене. Они боялись, что их выгонят из отеля, платить было нечем. В ожидании денег Достоевский заложил свои часы, а Аполлинария – кольцо. Он продолжал эту мучительную поездку по Европе то, скучая и тоскуя, то испытывая тревогу за состояние Марьи Дмитриевны. Он писал брату из Турина: «Искать счастье, бросив все, даже то, чему мог быть полезным, – эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье – если только есть оно в самом деле». В другом письме опять просьба выслать денег, оно адресовано Стахову. Путешествие подходило к концу, но эти странные отношения между Достоевским и Аполлинарией еще продолжались. Через много лет Розанов спросил Суслову в личной беседе, почему она разошлась с Достоевским. Она сказала: – Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной, так как она умирала. – Так ведь она умирала. – Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я его уже разлюбила. – Почему разлюбили? – Потому что не хотел развестись... Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая, и он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула. Этот ответ, возможно, проливает свет на вопрос, почему Суслова терпела около себя Достоевского после ее измены и даже хотела, чтобы он сопровождал ее в путешествиях. В первую пору их взаимоотношений она чувствовала себя оскорбленной тем, что ей в жизни писателя было отведено слишком скромное место, теперь, когда она видела Достоевского у своих ног, подвластного и несчастного, ее эгоизм и гордыня, жестокость и деспотизм получали мрачное удовлетворение, ее неженское начало торжествовало. Это никому не принесло счастья. Об этой ситуации говорит писатель словами героя «Игрока»: «Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность для меня исполнения моих фантазий, – эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение, иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях». Фёдор Михайлович застал жену во Владимире в очень тяжелом состоянии и перевез ее в Москву. Ей было необходимо обеспечить уход в эти последние тяжелейшие месяцы ее жизни. Фёдору Михайловичу досталось небольшое наследство, это как-то позволяло существовать. Он ухаживал за умирающей Марьей Дмитриевной, писал «Игрока» и статьи в журналы. Атмосфера этих месяцев была чрезвычайно тяжелой. У писателя участились припадки, после которых он не мог ничего делать по несколько дней. Достоевский тяжело переживал смерть жены, последовавшую 15 апреля 1864 года. Он писал: «Когда она умерла – я хоть мучился, видя весь год, как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, – но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается». Во многих произведениях писателя в чертах характера героинь узнаются черты Марьи Дмитриевны, этой женщины с внутренним жаром, порывистой и болезненно хрупкой. Достоевский опять оказался на самом дне очередного жизненного кризиса. Морально он был разбит смертью жены, разлукой с Аполлинарией, смертью брата Михаила, случившейся тремя месяцами позже. Он жил в Петербурге с приемным сыном Пашей, наглым и непорядочным молодым человеком. Многочисленная семья брата была теперь под опекой Достаевского. Считалось, что теперь материальные заботы о ней должны лечь на плечи Фёдора Михайловича. Другой брат, Николай, сильно пил и постоянно обращался к нему за помощью. Из-за ошибок и по нечистоплотности некоторых кредиторов писатель выдал часть векселей по уже уплаченным долгам брата. Дела с журналом затормозились. Из-за плохого здоровья, подавленности, одиночества у писателя не было сил. Надо было искать выход. Одно время Михаилу Фёдоровичу казалось, что его спасет женитьба на хорошей девушке из дворянской семьи, Анне Корвин-Круковской, но из этого ничего не вышло, они расстались. Выход Достоевский нашел неожиданный, это был шаг отчаяния. Летом 1865 года он с небольшой одолженной суммой денег выехал за границу, к игорным залам рулетки, в надежде увидеть Аполлинарию. Все было как в каком-то диком сне. Борьба за его любовь была безнадежна: на предложение выйти за него замуж Суслова ответила грубостью и презрением. Достоевскому оставалось только одно: игра должна была помочь ему забыться и дать финансовую свободу. Шарик вращался, красное – черное, чет – нечет. Боль и отчаяние, надежду и спасение, «да» и «нет» нес он в конечном своем движении. Достоевскому выпадало «нет». Проиграны были все деньги, и свои, и Аполлинарии. Она уехала. Все вещи он заложил. В отеле в долг обед не дали. Наступил реальный голод. В темноте (свечи стоили денег) он изнывал от стыда и отчаяния. Одна надежда была на помощь из России. Он обращался с просьбами спасти его к Врангелю, Тургеневу, Милюкову, Герцену, к некоторым издателям с предложением выслать ему аванс под будущий роман («Преступление и наказание»). По ряду несчастливых совпадений смог откликнуться только Тургенев. Наконец в этих крайне стесненных обстоятельствах Достоевский получил сумму в 50 талеров, хотя просил 100. Тургенев, светский лев, барин, мог позволить себе не задумываясь израсходовать тысячи, для него это не представляло затруднения. Спустя 10 лет Достоевский вернул долг, но Тургенев стал настаивать, что тот должен ему не 50, а 100 талеров! Фёдор Михайлович страшно обиделся, стал приводить документальные доказательства своей правоты, Тургенев не соглашался, в конце концов это привело к окончательному разрыву в отношениях писателей, которые и так всегда были прохладными. Купил билет домой и другую помощь оказал Достоевскому православный священник Иоан Янышев. В Петербурге Фёдор Михайлович немедленно сел за роман «Преступление и наказание», как-то отбиваясь от кредиторов, грозящих судом и тюрьмой. Припадки повторялись каждые 5 дней, не давая работать. Особенность ситуации заключалась в том, что год назад Фёдором Михайловичем и издателем Стелловским был подписан контракт, по которому всего за 3 тыс. рублей Достоевский отдал право на издание трех томов своих произведений. Причем Достоевский к 1 ноября 1866 года обязывался принести издателю 12 печатных листов нового романа, иначе писатель должен был выплатить неустойку и терял на 9 лет все права на эти тома. Со стороны Стелловского это было если не мошенничество, то хитро рассчитанная авантюра, он знал, что автор должен писать очередной роман для печати в журнал и не успеет написать второй роман к сроку. Хитрый издатель предварительно скупил все векселя Достоевского, на их погашение и был истрачен почти весь аванс от контракта. Мужество, решительность и большая удача не только спасли писателя от этой ловушки, но и, как выяснилось позже, привели его к долгожданному умиротворению, счастью и к исцелению, казалось, неизлечимого заболевания эпилепсией. «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь, написать в 4 месяца 30 печатных листов в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку... Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев бы умер от одной мысли». Этот свой план Достоевский смог осуществить благодаря помощи стенографистки Анны Григорьевны Сниткиной. Когда Достоевский диктовал девушке «Игрока», она и не предполагала, что вся столь блистательно описываемая психология человека, погруженного в азарт игры, в полубезумную зависимость от этой губительной страсти, не плод писательского воображения, а непосредственно пережитый собственный опыт Достоевского. Это была та драма чувств и положений, с которой ей еще предстояло соприкоснуться не в романе, а в дальнейшей своей жизни. За рекордное время в 26 дней им удалось записать роман «Игрок», параллельно Фёдор Михайлович закончил «Преступление и наказание». Не помогла издателю Стелловскому уловка с отъездом на момент срока сдачи романа: Достоевский вручил его через полицию. Благодаря этой сложной ситуации писатель познакомился со своей будущей женой, скромной и веселой девушкой. Ей было 20, ему – 44. Их свадьба состоялась 15 февраля 1867 года. Анна Григорьевна посвятила свою жизнь мужу и детям. В ней Фёдор Михайлович нашел своего ангела-хранителя, любимую жену, добрую мать его детей, а в дальнейшем и секретаря, распорядителя, взявшего на себя переговоры с кредиторами и хозяйство. Ей удалось постепенно привести в порядок финансовые и организационные дела семьи. Не все в их совместной жизни было гладко, они похоронили первого ребенка – дочь, а позже у них умер сын. Характер пожилого Достоевского отнюдь не стал менее раздражительным, но Анна Григорьевна умела предупреждать и успокаивать всякое недовольство супруга. Во многом этот брак напоминал отношения отца и матери писателя, наверное, в том и был секрет этого в общем благополучного брака. Вскоре после свадьбы Достоевские отправились в долгое путешествие за границу, длившееся 4 года. Жизнь вошла в относительно спокойное русло, шла размеренно при очень скромном семейном бюджете. Порой они испытывали нужду, так как деньги от изданий работ писателя не задерживались. В этих случаях их выручала мать Анны Григорьевны. Но однажды, переживая период стесненного материального положения, Фёдор Михайлович заговорил об игре в рулетку как о возможном способе быстро поправить их финансовые дела. (Тогда жене еще не была известна вся глубина этой разрушительной страсти Достоевского.) Он отправился в Гамбург, где можно было найти казино. Там произошла история, в точности совпадающая с историей, описанной в приведенном выше отрывке из «Игрока»: Достоевский сначала выигрывал, затем потерял абсолютно все, так что нечем было расплатиться за обслуживание в отеле, не на что купить обратный билет. Когда Анна Григорьевна получила это известие, она тут же собрала все имеющиеся деньги и отправила их в Гамбург. Что с этими деньгами сделал Достоевский? Он бросился в игорные залы и тут же все проиграл. В следующем письме он пишет умоляющим тоном: «Аня, ангел мой, единственное мое счастье и радость, простишь ли ты меня за все и все мучения и волнения, которые я заставил тебя испытать? О, как ты мне нужна!.. Будешь ли ты меня уважать? Ведь этим весь брак наш поколебался... Часы считаю, прости меня, ангел мой, прости, сердце мое». Прошло несколько часов, и в Дрезден пришло еще одно письмо: «Обнимаю тебя, сокровище, крепко, целую бессчетно, люби меня, будь женой, прости, не помни зла, ведь нам всю жизнь прожить вместе». Анна Григорьевна собрала свое мужество и заложила некоторые их вещи. Она отправила деньги с письмом, в котором молила мужа о возвращении. А он писал: «Я украл твои деньги, я недостойный человек, я не смею тебе писать». Когда Достоевский приехал, она с плачем бросилась к нему, увидев его настрадавшееся и обросшее лицо, она простила его без сцен и упреков, а он был так растроган этим, что всячески старался доказать жене свою любовь. Как ни странно, через это обстоятельство брак их только окреп. Такой неосознанный верный выбор тактики поведения с Фёдором Михайловичем в кризисный момент в дальнейшем привел к их совместной победе над этой страстью писателя. Когда Анна Григорьевна ждала ребенка, супруги отправились в Баден-Баден. Достоевский убеждал жену, что если она будет рядом и он сможет играть со спокойными нервами, то сможет применить специально разработанную им систему, позволяющую предсказывать выигрышные номера. Ему будет сопутствовать удача. Он верил в это.
И начались «кошмарные» (как назвала их Анна Григорьевна) 5 недель. Как будто безумный, Достоевский появлялся в отеле, брал сначала деньги, потом, когда они кончались, вещи: часы, свадебный подарок жене – брошку с бриллиантами, серьги; все пошло в заклад ростовщикам. Однажды ему удалось выиграть огромные деньги – 4 тыс. талеров. Они были отданы жене, но в течение дня он ежечасно возвращался в отель за очередной суммой, необходимой для того, чтобы подчинить себе колесо Фортуны... Но остановиться он смог лишь после того, как были заложены носильные вещи: костюм, пальто, шаль. Достоевский с женой оказались в самом бедственном положении. Они переехали из отеля в жалкую лачугу над кузницей. И как два года назад, после проигрыша, Фёдор Михайлович писал письма, просил денег и тут же их проигрывал. Положение было отчаянное, и тогда Анна поняла, что происходило с ее мужем: «...я поняла, что это не простая слабость воли, а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может». Для Фёдора Михайловича процесс игры был не актом смирения, вызовом судьбе, направляемой высшими силами, над которыми не властен человек. Это было все то же восстание против авторитета отца. Несмотря на слезы, которые Анна Григорьевна проливала втайне от мужа (ей особенно было жаль брошь и серьги, Достоевские не смогли их выкупить), она понимала бесполезность всех попыток увещеваниями победить его страсть. И никогда не пыталась этого делать. Муж воспринимал с благодарностью это проявление любви. «Аня меня любит, а я никогда в жизни еще не был так счастлив, как с нею. Она кротка, добра, умна, верит в меня, и до того заставила меня привязаться к себе любовью, что кажется, я бы теперь без нее умер». Они покинули злополучный город и переехали в Женеву благодаря помощи матери Анны Григорьевны, посылавшей им небольшую сумму ежемесячно. Супруги гуляли по окрестностям города, посещали музеи и осматривали достопримечательности, по вечерам Анна вязала и шила для малыша, которого они ожидали. Все было благополучно, но молодая женщина чувствовала, что Фёдор Михайлович томится: для творчества ему необходимо было нарушить размеренность налаженного существования. Он любил строгий порядок в работе и беспорядок для полета фантазии и вдохновения. И она пошла на страшный, рискованный шаг – предложила писателю отправиться играть. После недолгого сопротивления Достоевский поехал в Саксон ле Бен, проигрался там окончательно и вернулся к жене без зимнего пальто и обручального кольца, но привез после этого эмоционального шока очень плодотворную художественную идею и сел писать роман «Идиот», одно из лучших своих произведений. Супруги жили в Дрездене. Весной 1871 года произошла последняя поездка писателя в казино Висбадена. Все события развивались в знакомом порядке, и когда Достоевский истратил последние 30 талеров, высланные женой на билет, ему приснился жуткий сон: он видел отца, облик которого был ужасен. Это был сон-предупреждение (писатель верил в это, так как уже дважды этот сон предвещал ему беду и сбывался прежде). Что-то иррациональное, но внятное его душе вызвало такой сильнейший всплеск раскаяния и страха, какой не могли бы вызвать ни мольбы, ни увещевания. Он писал: «Аня, я так страдаю теперь, что, поверь, слишком уж наказан. Надолго помнить буду!.. Но только бы теперь тебя Бог сохранил, ах, что с тобой будет?.. Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя, моего ангела-хранителя, благословлять. Нет, уж теперь твой, нераздельно весь твой. А до сих пор наполовину этой проклятой фантазии принадлежал». Так произошло полное исцеление писателя от разрушительного пристрастия к игре, с этого момента больше никогда не тревожившее Достоевского. Очевидно, на каком-то внутреннем уровне он окончательно решил для себя проблему вызова судьбе, бунтарства и восстания против авторитетов. Эту тему он всегда исследовал в своем творчестве («Игрок», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы») в разных аспектах: социальном, нравственном и метафизическом. Политический консерватизм писателя так же полностью оформился. Революционные настроения он считал опасными и губительными для России, для ее религиозного и духовного развития. Восстанию он противопоставлял идеалы христианского смирения и милосердия. Достоевские вернулись в Петербург 8 июля 1871 года, за неделю до рождения сына Фёдора. К этому времени припадки эпилепсии постепенно прекратились. Характер писателя стал несколько ровнее. Но в России Достоевских опять встретили трудности. Жили они на гонорар за последнюю часть «Бесов». Двое детей на руках, а в дом надо было покупать мебель и вещи, так как все было потеряно из-за того, что вовремя не были уплачены проценты. Библиотеку растерял Паша. Дом, принадлежавший Анне Григорьевне, за очень низкую цену продали с торгов. Но благодаря жене все постепенно утряслось. Анна Григорьевна Достоевская позаботилась об издании работ мужа. Ей удалось сделать произведения писателя постоянным источником дохода (раньше ему предлагали крайне невыгодные условия). Постепенно все кредиторы были удовлетворены. В 1873 году Достоевский редактировал журнал «Гражданин». В нем он напечатал «Дневник писателя», в котором ответил на наиболее важные события текущей общественной жизни работами разного жанра (публицистика, фельетоны, критические и мемуарные очерки). «Дневник» стал очень популярен у широкого круга читателей и печатался с перерывами до конца жизни Фёдора Михайловича. Его авторитет писателя, философа и учителя побуждал самых разных людей обращаться к нему с письмами как к наставнику и духовному вождю. Писатель продолжал создавать и романы. В 1875 году был опубликован «Подросток», а в 1878–1879 годах появился знаменитый роман «Братья Карамазовы», в котором много автобиографического. В эти годы Достоевский достиг признания и славы. Жизнь писателя стала насыщеной и плодотворной. Но врачи настоятельно рекомендовали ему периодически отправляться на лечение в Эмс из-за развивающегося легочного заболевания. Невероятно, но годы не оказали на темперамент этого пожилого человека никакого влияния. В свои 60 лет он был по-прежнему страстно влюблен в супругу, проявлял горячность и нетерпеливость в спорах. Так же горячо он отзывался и на все, что было связано с общественно-политической жизнью России. Он часто выступал на публичных вечерах, и неизменно его вдохновенное чтение, приводившее в восторг слушателей, заканчивалось овациями. Так было и на открытии памятника А. С. Пушкину, на котором писатель сказал проникновенную речь, ставшую программой для поздних почвенников и славянофилов. Достоевскому требовался покой, были противопоказаны волнения, но этого достигнуть не представлялось возможным. Январским днем 1881 года после сильных волнений, связанных с политическими событиями, у писателя произошел разрыв легочной артерии. 28 января 1881 года Достоевский умер. Он умер, будучи скромно, но стабильно обеспеченным человеком, не оставив долгов своей семье, но завещав огромное по значению художественно-литературное наследие. Воспевший Миссисипи. Самюэль Клеменс (Марк Твен)Август 1860 года. Северная Америка. Окрестности города Олтона, Иллинойс. Старенький пароходик, пуская клубы дыма из трубы и громко шлепая колесами по поверхности воды, неторопливо двигался по фарватеру реки Миссисипи. Пароход глубоко осел в воде из-за груза, волны плескались у самого края ватерлинии. Угрюмый шкипер, не выпуская из зубов трубку, набитую вирджинским табаком, мрачно следил за действиями молодого лоцмана, замерявшего расстояние до дна. «Mark twain!» – донеслось до него с носа. Марк твен. Две сажени. Корабль пройдет. Капризна и непредсказуема прекрасная река Миссисипи, много сюрпризов готовит она для тех, кто пускается в плавание по ее голубым водам. Ни одно судно, будь это хоть дырявая калоша, не плавает по ней без лоцмана. Ни один капитан не рискнет двигаться по реке, пройди он Миссисипи от истока к устью хоть сто раз, не поставив на нос надежного профессионала. Да и лоцманами на этой реке называются не те, кто знает ее вдоль и поперек, как это водится в других краях. Нельзя познать Миссисипи, нельзя ее понять. Там, где годами была мель, завтра ее может не оказаться. А там, где сегодня прошло судно, на следующий день оно запросто сядет на мель. Банки и отмели появляются на ней совершенно произвольным образом, не подчиняясь какой-либо логике или системе, не поддаваясь человеческому разумению. Появляются из ниоткуда и спустя какое-то время исчезают в никуда. Для того и держат на кораблях лоцманов, потому и платят, что не будь их, не замеряй они целыми днями глубину по ходу движения судна – сядет оно на мель, да так сядет, что буксиром не вытащить. Жадная она река, эта Миссисипи, хищный у нее норов. Стоит кораблю попасться в ее ловушку, сесть на мель, и сразу начинает она расти, обволакивает его песком да илом со всех сторон, затягивает вглубь. И если не вырвался сразу, почитай, пропал корабль. Не сдвинуть его с места, не отнять у реки. Может, и отпустит она его потом, когда надоест ей железная игрушка, да только когда это будет... Так и встречаются на водной глади проржавевшие пароходы, что стоят памятниками среди реки или дрейфуют по течению как «Летучие голландцы», без пассажиров, без команды... И стоят на носах пароходов лоцманы, измеряют глубину, проверяют: не пошло ли дно вверх, не начало ли подниматься. И звучат их возгласы над кораблями: «Mark twain!». Две сажени до дна есть. «Mark twain!» – снова выкрикнул молодой лоцман по имени Сэм. Он еще не знал тогда, что будет знаменит по всему миру именно под этим именем – Марк Твен. В 1834 году в США произошел финансовый кризис, который разорил очень и очень многих. В числе пострадавших был и некогда самый богатый житель округа Фентресс, Джордж Клеменс. Решив, что на месте, где его постигло такое несчастье, удачи уже не видать, Джордж переехал в деревушку Флорида, где открыл лавку. Там же 30 ноября 1835 года у него родился сын, нареченный Самюэлем. Торговля в деревушке, насчитывавшей едва сотню жителей, шла плохо. Поняв, что денег тут не заработаешь, Клеменс-старший опять сорвал свое семейство с насиженного места. На сей раз, и уже окончательно, семья Клеменс перебралась в город Ганнибал на Дальнем Западе. Жизнь там текла однообразно и неторопливо, дни размеренно сменяли один другой. В такой обстановке и рос Сэм Клеменс. Был он мальчишкой озорным, таким же, как персонаж его книги Том Сойер. После выхода в свет в 1876 году «Приключений Тома Сойера» жители Ганнибала уверяли, что главного героя Твен почти без изменений списал с себя самого. Так же как Том, Самюэль заблудился с одноклассницей в пещере, дружил с сыном местного алкоголика Томом Бленкшипом, ставшим прообразом Гека Финна, катался по ночам на покрытой льдом Миссисипи, отпускал шуточки... Больше всех от этих забав страдала его тетушка Пэтси, которой он любил подкладывать в корзинку с рукоделием наловленных ужей. В общем, этот рыжий вихрастый мальчишка забавлялся как мог, а фантазия на подобные темы у него была просто неисчерпаемая. Когда Сэму Клеменсу было 12 лет, умер его отец, который так и не разбогател. Для мальчика началась взрослая жизнь – нужно было зарабатывать на кусок хлеба. Матери удалось устроить его учеником печатника в ганнибальскую газету «Курьер», и для юного Клеменса начались трудовые будни. Впрочем, он не унывал, продолжая устраивать различные каверзы и проделки. Так, например, когда в Ганнибал приехал известный гипнотизер, Сэм устроил настоящее шоу. «Три вечера подряд я сидел на эстраде среди добровольцев и, держа магический диск на ладони, силился заснуть, но ничего не выходило. На четвертый вечер я решился! Поглядев некоторое время на диск, я притворился, будто засыпаю, и начал клевать носом. Профессор тотчас же подошел ко мне и стал делать пассы над моей головой. Я медленно поднялся и пошел за диском по всей эстраде, как на моих глазах ходили другие. По внушению я убегал от змей, с волнением следил за пароходными гонками, ухаживал за воображаемыми девицами и целовал их. Вскоре по напряженным лицам зрителей я заметил, что гипнотизер стоит за моим стулом и гипнотизирует меня изо всех сил. На столе среди реквизита лежал старый заржавленный револьвер. Я подкрался к столу с мрачным, злодейским выражением лица, схватил револьвер, выкрикнул имя мальчишки, который сидел на первом ряду и с которым я недавно проиграл драку, и бросился с револьвером на него. Мальчишка в ужасе понесся из залы...» По условиям договора между печатником и мисс Клеменс, печатник должен был предоставить Самюэлю кров, еду и одежду. Работа не была столь уж легкой, особенно для мальчишки, в чьем возрасте положено голубей гонять, а не зарабатывать на жизнь. Всякое, конечно, случалось. Так, однажды «Уэйлс, другой ученик, стал читать наш оттиск и пришел в ужас, заметив, что допустил ошибку, – время он для этого выбрал не самое подходящее: была суббота, приближался полдень, – а по субботам мы с полудня бывали свободны и как раз собирались на рыбную ловлю. Уэйлс пропустил два слова. Что было делать? Заново набирать все сначала? Выходило, что мы освободимся не раньше трех часов. И тут у Уэйлса родилась вдохновенная мысль. В той строке, где он пропустил два слова, встречалось имя Иисус Христос, и мы единодушно решили сократить его, оставив только И. Х.». Спустя некоторое время Клеменс перешел работать в газету старшего брата, Ориона. Правда, доходов она не приносила и держалась на голом энтузиазме, однако там Самюэль уже был не учеником, а самым настоящим печатником. Впрочем, и здесь он не задержался надолго, в скором времени перебравшись в Цинциннати. Толчком к переезду послужил следующий случай, также описанный Твеном в своей биографии: «Однажды зимним утром я шел по главной улице городка. Мимо меня пронесся какой-то клочок бумаги, и его прибило к стене дома. Я подобрал его. Это был билет в 50 долларов! Впервые я видел столько денег, собранных воедино. Я дал в газеты объявление и за следующие дни исстрадался на тысячу долларов, дрожа, как бы владелец не прочел мое объявление и не отнял у меня мое богатство. Прошло четыре дня, за деньгами никто не являлся, и я почувствовал, что дольше этой муки не выдержу. Я купил билет до Цинциннати и поехал туда». В Цинциннати Клеменс снова устроился печатником в типографию. Но и в этом месте он долго не продержался – сказался непоседливый нрав и присущий ему авантюризм. Прочитав книгу об исследовании Амазонки, Самюэль загорелся идеей разбогатеть, собирая растущую в ее бассейне коку (ту, из которой в наши дни изготавливают кока-колу и кокаин). Собрав свой нехитрый скарб, легкий на подъем Клеменс сорвался с насиженного места и сел на пароход до Нового Орлеана. Каково же было его разочарование, когда, прибыв в пункт назначения, он узнал, что пароходы из США в устье Амазонки не ходят и ближайшие лет 100 ходить не будут. Меж тем деньги, которых и так было кот наплакал, таяли на глазах. Что было делать? Клеменс не растерялся. Вернувшись на привезший его пароход, он попросил взять его учеником лоцмана. Лоцман не возражал, капитан тоже, и у Самюэля появилась новая работа. Годы, проведенные им на Миссисипи, стали самыми, пожалуй, счастливыми в его жизни. Река, на которой он вырос, которую он искренне любил, стала для него местом, где он наконец обрел свое призвание. Вероятнее всего, никто и никогда так и не узнал бы о Клеменсе, не разразись в 1861 году Гражданская война в Америке. Он бы прожил всю свою жизнь, выбирая фарватер для кораблей, и был бы вполне счастлив, однако с началом военных действий всякое судоходство по Миссисипи прекратилось. Лоцман оказался на мели. И снова сказался его авантюрный нрав. Нет, он не пошел добровольцем в армию. Вероятно, тогда ему было совершенно безразлично, кто победит – северяне или южане. Он поступил иначе. Старшему брату Самюэля, Ориону, в первый месяц войны предложили должность секретаря губернатора необжитой еще территории Невады на западном побережье, и Твен отправился туда вместе с ним. В Неваде тогда бушевала золотая лихорадка, и Клеменс вполне серьезно рассчитывал намыть золотишка и наконец-то разбогатеть. Дело не заладилось сразу. Вот что писал он матери в своем письме: «...Дорогая матушка! Место я застолбил и вот уже три дня торчу у берега, но пока миллионы что-то не текут мне в руки. За два дня намыл серебра на 3 доллара 47 центов, при том что за участок отдал 4. О! Слышу выстрелы на улице! И все сильнее и сильнее! Выстрелы и приключения – это по моей части, так что побегу, дорогая матушка, посмотрю...» Он искал золото долгие 7 месяцев, проел все свои сбережения, но так и не добился успеха. Плюнув в сердцах на это неблагодарное дело, он уехал в Вирджиния-сити, где устроился журналистом в газету «Территориэл Энтерпрайз». Начался новый период его бурной жизни – Клеменс стал писать. Именно тогда и появился его псевдоним, взятый, видимо, в память о замечательно проведенных годах на Миссисипи. Впрочем, в жизни он его не употреблял, всегда и везде представляясь как Самюэль Клеменс. Имя же Марк Твен появлялось исключительно под его текстами. Репортером Клеменс был до 1871 года, успев за эти годы поменять несколько мест работы. Тогда же он начал писать и художественные произведения. 18 ноября 1865 года он опубликовал небольшой рассказ под названием «Джим Смайли и его знаменитая скачущая лягушка», который сразу сделал Твена известным. Два года спустя он выпустил уже целый сборник рассказов, который назывался «„Знаменитая скачущая лягушка из Калаверс-сити„ и другие рассказы“, что сделало его еще более известным и популярным. Правда, коммерческую выгоду из сборника извлек не Твен, а издательство, отчего Клеменс вынужден был продолжать работать журналистом. Дополнительным заработком для него были поездки с публичными чтениями своих произведений, что в те времена было очень популярно в Америке. В 1867 году Самюэль Клеменс отправился в круиз, причем умудрился сделать это не за свой счет, а за счет редакции. Путешествие на огромном океанском лайнере, на котором отправился Клеменс, было широко разрекламировано во всех американских газетах. Предполагалось, что пароход отправится в Европу, оттуда – в Переднюю Азию, а затем – в Россию, причем на нем должны были находиться многие американские знаменитости. Узнав об этом, Клеменс заключил договор с газетами и журналами, в которых публиковался, на написание ряда статей и рассказов об этом грандиозном путешествии и взошел на борт в качестве журналиста и начинающего писателя. Знаменитости, правда, подкачали – из заявленных в рекламе личностей в путь отправились немногие, однако путешествие получилось очень увлекательным. Американская делегация была даже принята (во время посещения Одессы) Александром II в его летней резиденции. Но самое главное событие в жизни Твена, связанное с этим путешествием, состояло в том, что он познакомился со своей будущей женой, Оливией. Та путешествовала на пароходе с целью поправки здоровья. Дело в том, что, будучи 16 лет от роду, она упала на льду, что привело к частичному параличу, и при малейшей попытке подняться ее одолевала тошнота и страшная слабость. После падения она 2 года пролежала в постели. У Оливии побывали лучшие американские врачи, но медицина оказалась бессильна. Тогда ее родители пригласили некоего мистера Ньютона, экстрасенса, как говорят в наши дни. Личность эта была отнюдь не однозначная, имя его гремело по всему миру, причем и в Европе, и в Америке его считали обычным шарлатаном. Ньютон пришел. Первым делом он распахнул окна комнаты настежь, затем прочел короткую, но пламенную молитву, после чего подошел к несчастной девушке, обнял ее за плечи и сказал: «А теперь, дитя мое, давайте сядем». Родители Оливии ринулись к Ньютону отговаривать его от этого поступка, однако тот быстро поставил их на место, спросив: «Кто тут лечит?». Удивительно, но, посидев несколько минут, Оливия не ощутила ни тошноты, ни слабости. Тогда Ньютон сказал: «А теперь, дитя мое, мы с вами пройдемся». Он помог девушке встать и прошел с ней по комнате несколько шагов. С тех пор Оливия каждый день могла пройти без особого труда хотя бы полкилометра. Семья Оливии отнюдь не горела желанием породниться с Самюэлем Клеменсом, да и сама она довольно прохладно относилась к неожиданному ухажеру, однако не таков был Клеменс, чтобы отступиться. Он начал осаду по всем правилам. Что только он не делал, лишь бы добиться расположения Оливии! Один раз он даже симулировал серьезную травму, полученную им якобы, когда он выпал из коляски, отъезжающей от их дома. Осада длилась целый год и закончилась тем, что крепость выкинула белый флаг – Оливия ответила «да» на предложение руки и сердца. Влюбленность благотворно повлияла на творчество Марка Твена. Одна за другой вышли его книги: «Простаки за границей», «Налегке», «Позолоченный век», «Жизнь на Миссисипи». Все эти сборники рассказов пользовались неизменной популярностью у публики.
Не оставил он и публичных чтений, присовокупив к ним чтение лекций и разъезжая с ними по всей стране – деньги лишними не бывают. В Кембридже с ним произошла забавная история, о которой нам известно из его письма жене. Вот что он писал ей: «Вчера вечером, когда я приехал в Кембридж, здешний комитет сообщил мне, что газета „Таймс“ напечатала мою лекцию целиком и что газета широко читается в Кембридже. Настроение у меня совсем упало, но зато начал подниматься гнев. Я без околичностей выругал сообщившего мне эти сведения человека за то, что он не нашел ничего лучшего, как рассказать мне, что я буду выступать перед публикой, знающей мою речь заранее. Затем он ушел с тем, чтобы вернуться после ужина, а я остался наедине с моей яростью. В назначенное время председатель вернулся, а в семь часов раздался набат. Он вскочил и воскликнул: „Господи! Лекционный зал горит!«. Мысленно я произнес благодарственную молитву. Глядя на языки пламени, бушевавшего в высоких окнах, я почувствовал, что настроение у меня подымается и для полного счастья мне не хватает только одного – увидеть, как редакторов „Таймс“ и этого председателя запирают в горящем лекционном зале. Однако радость моя продолжалась недолго. Снова ее сменило бешенство. Здание было спасено. Оно немножко обгорело и было совсем затоплено водой, но не прошло и часа, как полы вытерли, помещение проветрили, опять затопили печи, – и я прочел свою лекцию». В 1876 году Твен издал «Приключения Тома Сойера», которые сделали его одним из самых читаемых писателей Америки, а выход в свет «Приключений Гекльберри Финна» принес ему мировую славу. И действительно, по популярности с Твеном может встать в один ряд только такой известный американский писатель, как Майн Рид, однако, учитывая то, что писали они в совершенно разных стилях и направлениях, о каком-то творческом соревновании между этими двумя авторами не может быть и речи.
Правда, после выхода «Приключений Гекльберри Финна» на Твена обрушился ряд обвинений в безнравственности, которые он с присущим ему юмором парировал. Так, например, одна из нью-йоркских газет опубликовала следующую заметку: «Правление Бруклинской библиотеки запретило выдавать детям моложе 15 лет „Приключения Тома Сойера„ и „Приключения Гекльберри Финна« Марка Твена, поскольку считает их безнравственными. Знаменитый юморист написал этим господам остроумное, полное сарказма письмо, которое они, однако, отказываются опубликовать под тем предлогом, что не имеют на то разрешения автора“. В 1896 году по финансовому благополучию семьи Клеменс был нанесен страшный удар, от которого она так и не смогла окончательно оправиться. Разорилось издательство, основанное Твеном. Сам по себе факт был отнюдь не удивительный: Самюэль Клеменс основывал уже не одно подобное предприятие, и все они благополучно прогорали, разоренные бездарными либо слишком жадными управляющими. Однако на сей раз Твен оказался полным банкротом, так как издательство не просто разорилось, оно осталось должно 96 тыс. долларов, мертвым грузом повисших на Самюэле Клеменсе. В целом ему вообще не везло в денежных вопросах. Поначалу издатели не доплачивали молодому автору, фирмы, которые он основывал для издания своих книг, прогорали, вкладывал деньги он – человек азартный – практически всегда неудачно. Но такого краха, какой произошел с ним в 1896 году, у Твена еще не было никогда. И вот, будучи уже стариком, а на тот момент Клеменсу исполнилось 65 лет, он был вынужден вернуться к зарабатыванию денег чтением лекций. Почти год он ездил с ними по всему миру и сумел заработать достаточно, чтобы расплатиться с долгами, но о былом материальном благополучии не могло идти и речи. А в конце турне его ждал еще один удар от судьбы – скончалась его жена Оливия. Самюэль Клеменс полностью отошел от дел, оставшись доживать свой век в одиночестве. В 1910 году он скончался. Марк Твен умер, но книги его продолжают жить. По сей день он остается одним из самых издаваемых и читаемых авторов. И не только детьми, хотя официальная советская критика отнесла его к детским авторам. На самом деле в его книгах поднимается огромное количество философских и моральных проблем, очень смелых для его времени. Незадолго до смерти Самюэль Клеменс сказал: «Похвалы хороши, комплименты тоже прекрасны, но любовь – это последняя и драгоценнейшая награда, какую только способен завоевать человек своим характером или своими достоинствами». Он, безусловно, завоевал любовь миллионов. Оскар Уайльд. Крах Великого ЭстетаШироко известный в конце XIX века американский хиромант Луис Хамон, обладавший уникальным даром безошибочно определять характер и предсказывать судьбу по линиям рук, в силу своей оригинальной профессии давно научился ничему не удивляться. Но однажды, взяв в руки ладони некоего человека, чьего лица он не видел (правила развлечения требовали, чтобы предсказатель скрывался за занавесом), Хамон был просто поражен необыкновенным несоответствием знаков правой и левой руки. «Такое ощущение, что левая рука принадлежит королю, а правая – королю, который отправился в добровольную ссылку», – произнес Луис Хамон, внимательно изучив ладони незнакомца. – Левая рука сулит необычайно яркую судьбу и нескончаемый поток триумфальных успехов, в то время как на правой руке четко видно, что все это завершится в один ужасный день... Вам тогда исполнится 41 или 42 года». Разумеется, тогда эти прогнозы вызвали лишь всеобщее возмущение и презрительные усмешки. Иначе и быть не могло: ведь руки принадлежали знаменитому писателю Оскару Уайльду, находившемуся в то время на вершине славы. Никто не мог предположить, насколько правдивы окажутся слова гадателя: головокружительный успех Уайльда никак не мог закончиться катастрофой. Естественно, и сам писатель отказался поверить в зловещее предсказание, высокомерно отклонив предложение Хамона помочь ему изменить будущее. Выпавшие на долю Уайльда испытания очень скоро заставили его горько сожалеть об этом опрометчивом решении: возможно, согласись он тогда последовать совету хироманта, все сложилось бы совсем иначе. И встретив Луиса Хамона в 1900 году, униженный, уничтоженный, все потерявший Уайльд мог сказать гадателю только следующие слова: «...Больше всего меня мучает одно – почему я вас тогда не послушал? Почему не внял предостережению?». Возможно, трагедия Уайльда была предопределена свыше, но скорее всего ее истоки кроются в самом мировосприятии писателя. Исповедовавший культ красоты как единственной ценности, возведший эстетизм и свободу творческой личности в степень главного жизненного принципа, в дышавшую пошлостью и лицемерием Викторианскую эпоху Уайльд просто не мог ожидать для себя иной участи. Английское общество конца XIX столетия, строго каравшее любые отклонения от провозглашенных им условных норм морали, отвергло и уничтожило недавнего кумира, тщетно пытавшегося защитить свою неповторимую индивидуальность и отстоять право на любовь. Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд родился в Дублине 16 октября 1854 года. Его отец, Уильям Уайльд, был талантливым хирургом, а мать, Франческа Джейн Элджи, собирала фольклор и под псевдонимом Сперанца («Надежда») писала стихи и политические статьи, прославлявшие достоинства ирландского народа.
Свободная творческая атмосфера в семье, несомненно, повлияла на становление характера одаренного мальчика и в чем-то определила его дальнейший жизненный путь. В возрасте 10 лет Оскар поступил в престижную Королевскую порторскую школу в городе Эннискиллене и, окончив ее с отличием в 1871 году, получил стипендию в дублинском Тринити-колледже. Юноша блестяще учился, достигая особых успехов в античной литературе, и 3 года учебы в колледже принесли ему множество призов. Главной наградой оказалась стипендия в оксфордском колледже Святой Магдалины, где юный Оскар Уайльд продолжил свое образование. Уже тогда будущий писатель приобрел среди товарищей и преподавателей репутацию эстета и щеголя, и это нисколько не умаляло его литературных талантов.
В 1878 году, окончив Оксфорд со степенью бакалавра искусств, Уайльд отправился в Лондон, чтобы посвятить себя литературному труду. Еще в годы учебы под влиянием лекций Дж. Рескина Оскар проникся идеями эстетизма и с тех пор от всей души проповедовал в своем творчестве идеал «бесполезной», самоценной красоты, способной противостоять пошлому практицизму викторианской морали. Успех пришел к Уайльду буквально с первых его шагов в литературе. В 1880 году он написал свою первую пьесу «Вера, или Нигилист», передав один из ее экземпляров популярной в то время актрисе Эллен Терри, а через несколько месяцев издал за свой счет сборник стихотворений. Все это принесло молодому автору довольно широкую известность как в Англии, так и за ее пределами (хотя, конечно, о мировой славе говорить было еще рано). И в 1881 году Оскара пригласили в Америку, дабы он мог выступить в Нью-Йорке с циклом лекций. Предложение оказалось весьма кстати: уже пришла пора сообщить миру о новых принципах искусства. Но существовала и гораздо более веская причина: доставшееся от отца небольшое наследство было давно растрачено, и писателю срочно требовались деньги. А в том, что в Америке его ждут успех и богатство, Оскар не сомневался. Надо сказать, что в этом он не ошибся. Самая первая его лекция, посвященная английскому Ренессансу, принесла автору сногсшибательный успех. Вспоминая об этом периоде жизни, Уайльд с гордостью говорил, что «с ним носились больше, чем с Сарой Бернар». Американцам действительно было от чего прийти в восторг: высказывания молодого писателя были своеобразны и неординарны. «Мне отвратительна вульгарность реализма в литературе. Того, кто может назвать палкой палку, следовало бы заставить пользоваться ею. Это единственное, для чего он может пригодиться», – заявлял Уайльд. Повышенный интерес к собственной персоне Оскар Уайльд вызывал не только своими мыслями, но и более чем оригинальной манерой поведения. Одни только его наряды способны были шокировать публику: «Облегающий бархатный камзол с большими, украшенными цветочным узором рукавами и круглым гофрированным воротничком, выглядывающим из-под стоячего ворота... короткие штаны до колен и серые шелковые чулки в тон серому, мышиному бархату». Слушатели придавали огромное значение столь экстравагантному наряду, и, когда в Цинциннати лектор появился перед ними в обыденной одежде, публика испытала недовольство и разочарование. Уайльд провел в Америке около года, после чего, прожив 2–3 недели в Лондоне, решил посетить Париж. Здесь он познакомился с самыми выдающимися деятелями искусства конца XIX века: Полем Верленом, Малларме, Виктором Гюго, Эмилем Золя, Альфонсом Доде и Эдмоном де Гонкуром. Писатель всегда стремился жить в соответствии со своими принципами, а потому исповедуемая Уайльдом доктрина эстетизма неизменно воплощалась им не только в искусстве, но и в реальной жизни. Оскар Уайльд привык со всех сторон окружать себя красотой и роскошью, и поэтому нет ничего удивительного в том, что в Париже он потратил остаток заработанных в Америке денег. Встречаясь со знаменитостями, проводя время в лучших парижских ресторанах, писатель абсолютно ни в чем себе не отказывал.
В Париже Уайльда ждала не менее ошеломляющая слава, чем в Англии и США; он стал истинным законодателем моды, и молодые французские эстеты стремились во всем ему подражать. Это был настоящий триумф. «...Чтобы англичанин был признан в Париже, где все построено на нюансах и где так ненавидят англичан, что слово „англичанин“ – синоним злобы и презрения, для этого нужно было обладать из ряда вон выходящими личными качествами», – с восхищением писал известный русский поэт-символист Константин Бальмонт. Уайльд провел в Париже 3 месяца, а затем вернулся в Лондон. За это время в его жизни произошло значительное событие: писатель встретил свою будущую жену, юную Констанцию Ллойд, «изящную маленькую Артемиду с глазами-фиалками, копною вьющихся каштановых волос и чудесными, словно точеными из слоновой кости пальчиками». Их свадьба состоялась в апреле 1884 года, а в 1885 году у Оскара и Констанции родился первый сын Сирил. Между делом Уайльд продолжал создавать свои произведения, добиваться славы, богатства и успеха. Но семейная жизнь писателя была отнюдь не столь счастлива и безмятежна, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на все его восторженно-поэтические высказывания в адрес прекрасной супруги, нашелся некто, кому удалось занять большее место в сердце Оскара. Это был очаровательный 17-летний студент Оксфорда Роберт Росс, с которым Уайльд познакомился в 1886 году. Очевидно, основы сексуальных предпочтений Великого Эстета были заложены в его сознание еще в раннем детстве: известно, что мать любила наряжать юного Оскара в девичьи платьица и отращивать мальчику длинные волосы. Как бы то ни было, благодаря прелестному Роберту (который впоследствии стал лучшим другом писателя) Уайльд открыл для себя новый мир, и с этого момента он начал вести двойную жизнь. Ни жена Оскара, ни его респектабельные друзья и коллеги даже не подозревали о том, что писатель частенько проводит свободное время в обществе юных содомитов. Переломный момент в судьбе Уайльда наступил в 1891 году. Именно тогда увидела свет его знаменитая повесть «Портрет Дориана Грея», в одночасье сделавшая автора одним из самых известных писателей мира. Отклики критики были противоречивы и главным образом негативны, блюстители викторианской морали объявили повесть безнравственной, но, так или иначе, произведение принесло Уайльду мировую славу и популярность. В том же году в жизни Уайльда произошло событие, предопределившее его трагическую катастрофу: 37-летний писатель познакомился с лордом Альфредом Брюсом Дугласом, сыном маркиза Куинсберри. В ту пору юноше было 20 лет, он учился на 2-м курсе оксфордского колледжа Святой Магдалины и был пылким поклонником творчества Уайльда (он утверждал, что прочитал «Портрет Дориана Грея» ни много ни мало 9 раз). Красота молодого лорда поразила писателя, и вскоре он обнаружил, что страсть его взаимна.
Альфред Дуглас, или Бози, как ласково называл его Уайльд, завладел всеми помыслами писателя. В одном из писем он с благоговейным восторгом признавался своему другу Роберту Россу: «Бози настоял на остановке для отдыха. Он подобен цветку нарцисса – такой ослепительно-бело-золотой... когда он возлегает на диване, он словно Гиацинт, и я преклоняюсь перед его красотой». Писатель был буквально ослеплен своей любовью: абсолютно все в юном лорде вызывало его восхищение, даже его стихи, которые, по свидетельству остальных современников, были отнюдь не гениальны. «Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией», – писал Уайльд своему возлюбленному в январе 1893 года. Между тем писатель продолжал работать, и популярность его постепенно приблизилась к высшей точке. Все это не мешало Уайльду наслаждаться обществом обожаемого Бози. Разумеется, их связь хранилась в строжайшем секрете, но благодаря образу жизни, который вели влюбленные, рано или поздно все тайны должны были раскрыться. Именно так в конце концов и случилось. Родители Альфреда давно подозревали о том, что их сын состоит в преступной связи со знаменитым писателем. В 1892 году леди Куинсберри, желая предотвратить несчастье, пригласила Уайльда с женой к себе в Брэкнелл. Разумеется, чопорная дама, истинное дитя Викторианской эпохи, в силу безупречного воспитания не могла открыто высказать свои опасения, и все ее попытки наставить Уайльда на путь истинный не увенчались успехом. В ответ на ее путаные и невнятные нравоучения писатель лишь невинно улыбался, делая вид, что совершенно не понимает, о чем идет речь. Единственным последствием разговора стал образ благочестивой и деспотичной леди Брэкнелл, недвусмысленно выведенный Уайльдом в комедии «Как важно быть серьезным». Тем не менее трагическая развязка не заставила себя ждать. Все началось с того, что один из приятелей Уайльда завладел его письмами к Бози, полными страстных признаний в любви, и вздумал использовать их для шантажа. Прекрасно понимая, чем все это может закончиться, писатель поспешил выкупить доказательства своей греховной любви, но некоторые из писем все же оказались в руках маркиза Куинсберри. Обнаружив, что все его подозрения оправдались, отец лорда Дугласа пришел в ярость. В порыве оскорбленной гордости он оставил в клубе «Альбемарл» записку, начинавшуюся словами: «Оскару Уайльду – позеру и содомиту». Получив этот вызов, писатель почувствовал, что жизнь его кончена. «Башня из слоновой кости атакована низкой тварью. Жизнь моя выплеснута в песок», – в отчаянии писал он верному Роберту Россу. Уайльд не видел иного выхода из ужасной ситуации, кроме как возбудить уголовное дело против своего обидчика. В этом его горячо поддержал Бози, не питавший к своему отцу ничего, кроме ненависти и презрения. 1 марта 1895 года писатель предъявил маркизу Куинсберри обвинение в клевете, и судебный процесс начался. Близкие друзья Уайльда прекрасно понимали всю абсурдность этой идеи; более того, им было известно, что Куинсберри предоставил суду важное доказательство: список имен 12 молодых людей, способных в случае необходимости подтвердить, что писатель на самом деле намеревался склонить их к содомии. Но все попытки уговорить Уайльда отозвать иск, прекратить преследование и покинуть Англию были тщетны: писатель не желал мириться с оскорблением, несмотря на его очевидную справедливость. Естественно, Куинсберри был оправдан, но на этом несчастья Уайльда не закончились. Обвинитель и обвиняемый мгновенно поменялись местами, и уже 6 ноября писатель был заключен в тюрьму Холлоуэй до начала слушания дела. Альфред Дуглас каждый день навещал своего возлюбленного, но вскоре по известным причинам он вынужден был уехать из страны. Заседание суда было назначено на 26 апреля. Уайльд отстаивал свое право на любовь со всей пылкостью и страстью, на которую был способен. Его речь, произнесенная в ответ на вопрос судьи о том, что же это за «любовь, не смеющая назвать свое имя», была настоящим гимном, торжественно восславившим прекрасное благородное чувство, задавленное пошлой «добродетелью» и лицемерной «нравственностью» Викторианской эпохи. Может быть, именно поэтому присяжные так и не смогли прийти к единому мнению и вынести свой вердикт. Уайльд был выпущен из тюрьмы под залог, и очередное заседание состоялось 20 мая 1885 года. На сей раз писатель единодушно был признан виновным в преступлении против нравственности. Суд определил для него максимальное наказание по этой статье: 2 года тюремного заключения с каторжными работами. Безусловно, если бы можно было вынести более строгий приговор, общество непременно воспользовалось бы этим. «На мой взгляд, это наказание слишком мягкое за все содеянное этим человеком», – заявил судья, объявив приговор. Мир перевернулся буквально за одну секунду. Человек, находившийся на вершине славы, бывший кумиром миллионов, в одночасье стал никем. По решению суда все его рукописи и имущество (дом, бесценные коллекции картин и фарфора) были распроданы на аукционе. На момент трагедии ежегодный доход писателя составлял грандиозную сумму – более 8 тыс. фунтов; теперь у него не было ни пенса. Жена и сыновья Уайльда поменяли фамилию: позорное родство принесло бы им лишь одни несчастья. Многочисленные друзья и коллеги, только что поклонявшиеся гению, больше не желали знать преступника; лишь единицы по-прежнему остались ему верны. Дирекции театров, где пьесы Уайльда имели ошеломляющий успех, мгновенно отказались от постановок, а издатели и книготорговцы сожгли все экземпляры его книг. Когда приговоренного писателя выводили из зала суда, во дворе его встречала толпа невежд и грубиянов, что пришли порадоваться его унижению. Подобно дикарям, они окружили осужденного и устроили безумную пляску с пением и хохотом, в которой излилась вся былая зависть и бессильная злоба ханжеского общества, неспособного противопоставить свою лицемерную мораль яркому таланту Великого Эстета. Первые полгода своего заключения Уайльд провел в Пентовилльской и Уондсвортской тюрьмах, а весь последующий срок – в Рединге. Когда писателя вместе с группой других арестантов перевозили в этот небольшой город, расположенный недалеко от Оксфорда, на одной из станций собрались любопытные (как известно, ничто не может быть более привлекательным для черни, чем зрелище человеческого страдания и унижения). Один из зевак, стремясь, очевидно, продемонстрировать свою осведомленность, воскликнул: «Ба! Да ведь это Оскар Уайльд!» – и плюнул ему в лицо. Разве мог писатель в золотые дни своей славы предположить, что с ним когда-либо произойдет такое? В тюрьме Уайльд испытал все несчастья, какие только могут выпасть на долю человека. Он лишился всего, что у него было; возлюбленный Бози за все 2 года не написал заключенному ни строчки, его мать умерла, жена и дети почти не навещали его. Здоровье Уайльда ослабло, и дух его был сломлен. Когда 18 мая 1897 года писатель покинул стены тюрьмы, он уже ничем не напоминал того ослепительного позера и прожигателя жизни, каким был совсем недавно. Через несколько дней Уайльд встретился с теми немногими, что сохранили ему верность, и навсегда уехал из Англии. Под именем Себастьяна Мельмота писатель поселился на вилле в Берневале, местечке неподалеку от Дьеппа. Все это время Уайльда не оставляла мысль о Бози, которого он отчаянно стремился увидеть. Лорд Альфред Дуглас проживал в Неаполе, и у разорившегося писателя совершенно не было денег на поездку; к тому же родственники его жены всеми силами старались помешать этой встрече. И тем не менее она состоялась: в этом Уайльду помог некто Винсент О’Салливан, предоставив необходимую сумму денег. Однако долгожданное свидание не принесло радости ни тому ни другому, и в декабре 1897 года Оскар Уайльд навсегда расстался с возлюбленным и вернулся в Париж. Самым ужасным испытанием для Уайльда, привыкшего жить в роскоши, оказалась бедность. «Страдание можно, пожалуй, даже должно терпеть, – писал он Андре Жиду, – но бедность, нищета – вот что страшно. Это пятнает душу». Оскар Уайльд умер в декабре 1900 года в нищете и забвении. На скромных похоронах его присутствовали немногочисленные друзья, среди которых был и Альфред Дуглас, по-прежнему поклонявшийся поверженному кумиру. Одиссея Джеймса ДжойсаМир Художника – всегда особый, необычный мир. Явления внешней реальности находят в нем своеобразное отражение, подчас оставаясь за пределами эстетического восприятия. Нередко все, что касается земной жизни, в частности материальных благ, не составляет предмета интереса подлинных служителей искусства, а потому претерпеваемые этими людьми тяготы и лишения определяются ни чем иным, как складом их души, всецело отданной творчеству. Вероятно, к числу таких людей и принадлежал Джойс, чья жизнь являла собой истинный путь Художника. Фантастически гордый и самолюбивый, ставивший себя намного выше даже самых значительных событий своего времени, он к тому же обладал какой-то поразительной беспечностью в практических вопросах, зачастую, казалось бы, даже не задумываясь о необходимости приобретения каких бы то ни было средств к существованию. Джеймс Августин Алоизий Джойс родился в Дублине 2 февраля 1882 года. Семья его была буржуазной, обладала весьма посредственным достатком, и, несмотря на то что Джойсы с гордостью возводили свой род к знатному старинному клану из Голуэя, мужчины этой фамилии из поколения в поколение зарабатывали на жизнь таким неподобающим аристократии занятием, как виноторговля. Отец будущего писателя, Джон Станислаус Джойс, не стал в этом смысле исключением, однако в данной сфере ему не удалось найти свое призвание. Все попытки заняться коммерческой деятельностью закончились полным разорением и, окончательно разочаровавшись в торговле, Джойс-старший ступил на иную стезю, попробовав себя на государственной службе. Новая должность приносила стабильный доход, и некоторое время семья ни в чем не нуждалась. Однако, вероятно, в силу проявления черт знаменитого ирландского национального характера – неумеренной страсти к выпивке и застолью, потрясающей безалаберности по отношению к элементарным бытовым проблемам – очень скоро он потерял все, чем наградила его жизнь. А досталось Джойсу-старшему действительно немало: недурное состояние, прекрасная жена, любящие дети, блестящий талант певца и рассказчика. Во многом благодаря этому таланту Джон Джойс всегда был душой любой компании, и ни один праздник или застолье не обходились без него. И пока отец семейства блистал остроумием на местных вечеринках, его несчастная жена, мать 15 детей, из которых выжило только 10, в непосильных трудах растрачивала свою молодость, силу и красоту. И нет ничего удивительного в том, что уже в 1891 году, когда будущему писателю не было и 10 лет, его беспечный отец был уволен со своей замечательной должности и остался практически без гроша. Прежняя безбедная жизнь закончилась, и для того, чтобы не оказаться в конце концов на улице и не умереть с голоду, Джойсы были вынуждены просить деньги в долг и закладывать имущество, которого со временем становилось все меньше и меньше. Семья беспрестанно меняла квартиры, и с каждым разом они оказывались все более дешевыми и убогими. Не случайно много лет спустя, после смерти Джона Джойса, на предложение описать своего отца Джеймс ответил лишь одной емкой фразой: «Он был банкрот». Скорее всего, в понятие банкротства писатель вкладывал не только примитивно-материальное, но и глубокое духовное содержание, не подозревая о том, что в самом ближайшем будущем все это окажется вполне применимо и к его собственной жизни. Вместе с состоянием Джон Джойс утратил и нечто несоизмеримо большее – уважение, любовь и привязанность жены и детей. Постепенно скатываясь в бездну нищеты, во всех своих бедах они обвиняли отца (нужно сказать, не без основания), его многочисленные пороки и слабости. Только со старшим, Джеймсом, у него сохранились теплые отношения. Пожалуй, он был единственным, кто не испытывал к отцу презрения и враждебности, а всегда стремился если не оправдать, то хотя бы понять его. Впоследствии писатель говорил об этом так: «Я ведь и сам грешник, даже недостатки его мне нравились». Во многом это объяснялось тем, что Джеймс довольно рано начал обнаруживать многие отцовские черты, в том числе и те, что не вызывали его восхищения, в своем собственном характере. Наряду с талантом (а Джойс не сомневался, что удивительный дар власти над художественным словом достался ему от отца), Джеймс унаследовал от него широту души во всех смыслах этого слова и полное равнодушие к материальному и бытовому устройству собственной жизни. А потому последующая финансовая несостоятельность самого Джойса в немалой степени была обусловлена этими самыми качествами пресловутого национального характера, унаследованными от отца. В то счастливое время, когда благосостояние семьи еще не было безвозвратно утрачено, отец успел позаботиться об образовании любимого сына и устроил Джеймса в престижный закрытый иезуитский пансион Клонгоуз Вуд, находившийся в соседнем графстве Килдер. Талантливый мальчик прекрасно учился и благодаря своим блестящим способностям и чистой, открытой натуре быстро завоевал всеобщее расположение. Однако сему безоблачному счастью не суждено было длиться вечно, и в 1891 году, когда семья полностью лишилась средств, Джеймс уже более не мог продолжать обучение в одной из самых лучших и дорогих школ Ирландии. В течение последующих двух лет мальчик учился дома и недолгое время посещал непопулярную и дешевую школу Христианских братьев, содержавшуюся братством католиков-мирян. Характерно, что ни в одном из произведений Джойса со свойственным им автобиографизмом этот факт не нашел никакого отражения. По всей видимости, пребывание в этой школе не затронуло души мальчика и ни в коей мере не повлияло на становление его внутреннего мира. И все же судьба уготовила Джойсу возможность закончить блестящее по тем временам образование. Как нередко происходит, способствовала этому простая случайность. В 1893 году Джойс-старший встретил бывшего ректора Клонгоуза Джона Конми, который за это время успел поменять место работы и перешел в дублинский Бельведер-колледж – не менее престижное учебное заведение. Обучение там предоставлялось за казенный счет, а потому Джон Джойс без особого труда и без ущерба для своего тощего кошелька (но и не без помощи Конми, разумеется) смог определить в Бельведер Джеймса и его братьев. Юный Джойс по-прежнему делал великолепные успехи в науках, и буквально с первых дней обучения в колледже за ним прочно закрепился статус лучшего ученика. Джеймс купался в лучах своей славы, которая доставляла тщеславному юноше не только глубокое моральное удовлетворение, но нередко находила и материальное воплощение. Каждый год в Бельведере проходили национальные экзамены, где Джеймс неизменно оказывался первым, за что и получал награды, во всех смыслах соответствовавшие его блестящим достижениям. Достаточно сказать, что эти суммы в несколько раз превосходили ежемесячную пенсию его отца, до некоторых пор составлявшую единственный источник дохода этого несчастного семейства. Естественно, что с этого момента отношение к Джеймсу в семье сильно изменилось. И до того не обиженный вниманием близких, теперь он стал предметом их восторженного поклонения. Умный, талантливый, поистине уникальный ребенок, чьи невероятные способности к тому же приносят солидную прибыль – чего еще можно желать родителям? Разумеется, такое положение не могло не повлиять на становление личности мальчика, хотя некоторые черты его сложного характера были заметны уже в раннем детстве. Еще будучи ребенком, он смотрел на все происходящее как бы со стороны, оставаясь вне событий и даже над ними. Теперь же во многом благодаря особенному вниманию родных подобное отстранение превратилось в пренебрежение ко всем явлениям и фактам окружающей действительности. Проявлялось это порой и в отношении к самым близким людям. Как замечал брат Джеймса Станни, в характере будущего писателя всегда присутствовало «нечто холодное и эгоистическое», а подчас это выливалось в прямое и нескрываемое высокомерие и презрение. Юному Джойсу было свойственно стремление извлечь из всеобщей любви и восхищения максимум личной выгоды, использовать эти лучшие чувства в корыстных (пока еще не в финансовом, разумеется, смысле) целях, а нередко и попросту манипулировать ближними своими. А последнее удавалось ему, пожалуй, как никому другому. Джеймс открыто демонстрировал неприятие всех существующих норм и правил, в глубине души считал бессмысленными все общественные институты и, вероятно, с удовольствием отказался бы подчиняться любым общепринятым требованиям. Однако это несогласие никогда не носило у Джойса формы яростного протеста, являясь скорее молчаливым отчужденным пренебрежением (как выражается автор фундаментальной биографии писателя Ричард Эллманн, он «предпочитал битве презрение»). При всем при том юный Джеймс Джойс, подобно любому истинному ирландцу, был разговорчив и общителен, любил хорошую компанию, умел быть искренним и преданным другом, испытывать к людям не только холодность и равнодушие, но и любовь, доверие, симпатию. У него начисто отсутствовали такие чувства, как жадность и скупость; может быть, это объяснялось тем, что в силу особого склада натуры Джойса вообще мало волновали материальные проблемы. Однако при всей широте и открытости души этот странный юноша всегда оставлял нечто скрытое, и все наиболее важное и существенное в его внутреннем мире никогда не находило внешнего проявления. Даже самым близким людям подчас бывало сложно понять, что он на самом деле думает и чувствует. Уже тогда начало формироваться особое мировоззрение, которое впоследствии выразилось в емкой формуле «Помалкивай, лукавь и уезжай». В годы обучения в Бельведере Джойс в полной мере приобщился к светской жизни и, подобно своему разорившемуся отцу, редко обходил стороной веселые, шумные застолья, благодаря остроумию и яркому дарованию неизменно становясь душой любой компании. Не избежал он и первых сексуальных опытов, имевших место главным образом в дублинском квартале красных фонарей. На оплату услуг жриц любви уходили немалые суммы от школьных наград, получаемых за исключительные успехи в учебе. К этому же периоду относятся первые опыты в области творчества, однако написанные в то время произведения были еще отмечены печатью ученичества, а потому не принесли автору ни известности, ни богатства. Но постепенно искусство становилось главным и единственным содержанием жизни Джойса. Окончательно разочаровавшийся в религии, никогда не находивший смысла в политике и общественной жизни, юный писатель раз и навсегда определил для себя свой истинный путь и предназначение. В те годы Джойс осознал, что прежде всего он – Художник, а значит, объективная реальность для него должна быть не более чем литературным материалом. Искусство – вот единственно возможная действительность, тогда как внешнее существование со всеми его мелкими, ничтожными проблемами вроде приобретения материальных благ или участия в политических играх не имеет никакого значения. В возрасте 16 лет окончив Бельведер-колледж, Джойс поступил в дублинский католический университет. Он по-прежнему превосходно учился, достигая особых успехов в словесности, но учеба, как одна из сфер материального мира, полностью перестала интересовать юношу. Всю свою жизнь он посвятил творчеству, и в студенческие годы им было написано немало произведений самых разнообразных жанров. Одно из них, а именно критическая статья «Новая драма Ибсена», наконец дало автору пропуск в мир литературы. Статья, опубликованная 1 апреля 1900 года в лондонском журнале «Двухнедельное обозрение», пользовавшемся, кстати, довольно весомой репутацией в литературных кругах того времени, была замечена и по достоинству оценена самим драматургом. Так молодой автор впервые обрел популярность, возможность печататься в солидных изданиях и некоторые знакомства в сфере ирландской культурной общественности. А культурная ситуация в Ирландии начала XX столетия складывалась совершенно особым образом. Это время борьбы народа за независимость было отмечено невероятным подъемом национального самосознания, проявившимся во всех областях искусства. Истинным средоточием этого мощного движения стал театр, объединивший деятелей едва ли не всех областей творчества: актеров, литераторов, художников. В их числе были драматург и поэт Уильям Батлер Йейтс, литераторы Эдвард Мартин, Джордж Мур, Джон Синг и Джордж Рассел. Никто из них не оставил без внимания новую звезду на литературном небосклоне, однако, если они и рассчитывали на то, что юный писатель благодаря их влиянию станет ревностным адептом новой веры – веры независимого ирландского народа, Джойс явно не оправдал их надежд. Он ни на минуту не примкнул к освободительному движению, хотя, конечно, и сами эти люди, и многие провозглашавшиеся ими эстетические принципы были ему близки. Но даже несмотря на то, что Джойс всегда ощущал свою принадлежность к ирландской национальной культуре и при всех нигилистических заявлениях судьба родной страны была ему все же небезразлична, он был слишком глубоко равнодушен к политике, чтобы сколько-нибудь серьезно увлечься этой борьбой. В общении с литературными знаменитостями Джойс оставался верен своей натуре и держался более чем высокомерно. Хотя нужно сказать, что само это общение молодому и гордому художнику никто не навязывал, и, заводя полезные знакомства, чаще всего он сам делал первый шаг. Так, в августе 1902 года, сразу после окончания университета, Джойс решил нанести визит незнакомому ему тогда, но пользовавшемуся огромным авторитетом в литературных кругах поэту, художнику и драматургу Джорджу Расселу. Того, правда, не было дома, и юному гению пришлось до полуночи ждать возвращения мэтра, чтобы предстать пред его светлые очи и получить благословение на творчество. Однако Джойс беседовал с Расселом в совершенно не подобающей его скромному статусу манере. Нетрудно представить себе удивление Рассела, когда нахальный юноша, не имевший в то время никакого веса в среде деятелей искусства, вместо того чтобы с благоговением внимать голосу великого современника, начал со свойственным ему уничижительным презрением поливать грязью творчество всех признанных корифеев ирландской словесности. Однако, как бы то ни было, возможно, именно такой стиль поведения в конце концов помог Джойсу добиться определенного успеха. Пораженный этой необычной встречей, Рассел написал всем известным литераторам о «гордом, как Люцифер», юноше, и последний таким образом не мог не вызвать их оживленного интереса. В октябре того же года молодой писатель встретился со своим былым кумиром Йейтсом (кстати, многие юношеские стихотворения Джойса явно несут на себе печать его влияния). Но и здесь он оставался верен себе и вел себя откровенно дерзко и вызывающе. Вот примеры наиболее ярких высказываний, адресованных прежнему учителю: «Я прочту вам свои стихи, раз вы просите, но мнение ваше мне совершенно безразлично»; «Вы слишком стары, чтобы я мог чем-нибудь вам помочь» (при этом не стоит забывать, что Йейтсу на момент той знаменательной встречи было 37 лет). Очевидно, Джойсу и в голову не приходило, что почтительное обращение с весомыми фигурами литературного мира могло бы помочь ему сделать прекрасную карьеру и добиться финансовой свободы и популярности. А скорее всего у него и не было в этом никакой необходимости, ведь несколько лет назад Джойс осознал, что на первом месте для него должно стоять только искусство. Так или иначе, удача продолжала сопутствовать самолюбивому юноше, и, несмотря на все свои дерзкие выпады, он не утратил расположения преуспевающих коллег. Джойс по-прежнему пользовался их поддержкой (в частности, в вопросах публикации), не стесняясь брал в долг и не всегда отдавал деньги, которых ему вечно не хватало. Во многом таким отношением он был обязан своему исключительному, уникальному таланту, который просто не мог остаться незамеченным. Однако зарабатывать на жизнь литературным трудом Джойсу пока не удавалось. Постепенно в его сознании все отчетливее формировалась мысль о необходимости покинуть пределы родной страны. Эта необходимость диктовалась по большей части тем, что гордому и амбициозному художнику, обладавшему ярким, оригинальным дарованием, попросту стало тесно в рамках ирландской культурной ситуации, казавшейся ему весьма ограниченной. Свободная личность требовала выхода в более широкое пространство; для полной самореализации ей требовался мировой культурный контекст. Кроме того, Джойс ясно осознавал, что искусство Ирландии замкнулось на проблеме национального самосознания. Его же собственный талант не укладывался в узкие границы этого направления, а открыто заявлять о собственных принципах творчества и бороться за их воплощение было не в характере Джойса и противоречило складу его натуры. Так к концу 1902 года он уже окончательно и бесповоротно решился на добровольное изгнание. Однако сразу осуществить свои планы Джойсу было не суждено. Первым делом он отправился в Париж, пребывая в наивной уверенности, что станет там изучать медицину. Действительность явила собой полную противоположность его светлым безоблачным мечтам. Прежде всего юноша с удивлением выяснил, что обучение стоит денег, которых у него никогда не было. Кроме того, далеко не блестящее знание французского языка преграждало ему путь к постижению сложной науки. О том, чтобы печататься и получать за это деньги, не могло быть и речи: в Париже у Джойса не было ни связей, ни имени и его произведения были абсолютно не востребованы. Разочарованному юноше не оставалось ничего другого, кроме как бросить лекции и отправить любящей матери письмо с настоятельной просьбой срочно выслать денег на дорогу домой. При этом Джеймс не забыл упомянуть о том, что некое непонятное недомогание, заставлявшее его целыми днями спать, полностью его обессилело, и теперь он просто не в состоянии вынести дешевый и утомительный путь, а потому требует чуть больше денег, чтобы добраться домой без ущерба для здоровья. Первое бессмысленное путешествие, которое обошлось Джеймсу и его родителям в кругленькую сумму, закончилось, не успев начаться. В течение следующего месяца он жил в Дублине, а затем вновь уехал в Париж. Продолжать медицинское образование не имело смысла, и в конце концов нужно было уже как-то реализовывать свое великое предназначение Художника, но произведения Джойса по-прежнему не пользовались спросом. Однако юноша был упорен и не оставлял попыток покорить мир. В свободное от этого занятия время он зарабатывал на жизнь, получая скудные гонорары от газетных статей и уроков. Но очень скоро юный писатель вынужден был снова возвратиться на родину, получив известие о том, что его мать умирает. Несколько тяжелых месяцев Джойс провел у ее постели. Все это время его не оставляли мрачные чувства тоски и отчаяния; он перестал работать и заполнял пустоту в своей жизни беспробудным пьянством в обществе ближайшего приятеля. После смерти матери, наступившей в августе 1903 года, Джойс постепенно вернулся к литературной деятельности: он оставался верен избранному призванию, и, наконец, нужно было на что-то жить. Правда, в течение всей осени он испытывал творческий кризис, поскольку чувствовал потребность в новом стиле, новом методе, но не мог его найти. Находясь в этом мучительном поиске, Джойс время от времени писал небольшие рецензии, дававшие ему возможность не умереть с голоду. Наконец желанный жанр был найден, и с этого момента начался новый, зрелый этап в творчестве писателя. Почти одновременно с этим к Джойсу пришла первая и единственная на всю жизнь настоящая любовь. Ее звали Нора Барнакл, она была молода, красива, непосредственна и с самого первого дня стала главной героиней джойсовских мыслей, чувств и всех его книг. Тем временем жизнь в Дублине становилась для Джойса невыносимой. Сильная и независимая личность художника требовала все большей и большей свободы, что заставило его в конце концов уйти из дома и жить практически без крыши над головой, зато совершенно самостоятельно. Первое время он снимал комнату в доме своих знакомых Маккернанов. Плата за жилье была чисто символической, однако и эти ничтожные суммы Джойс, вечно сидевший без гроша, никогда не отдавал вовремя. Когда хозяева уехали из Дублина, свободный художник оказался на улице. В течение недели он скитался по городу в поисках дешевой квартиры, пока наконец не нашел пристанище в башне Мартелло. Построенная в начале XIX столетия, в мирное время она утратила свое основное предназначение и сдавалась внаем за 8 фунтов в год. Ренту выплачивал друг Джойса, Оливер Сент-Джон Гогарти, человек не менее, если не более, высокомерный и дерзкий, чем сам писатель. Существуя полностью за счет приятеля, Джойс вынужден был терпеть его насмешки и презрительные замечания, но, разумеется, долго это продолжаться не могло. В конце концов художник понял, что более не в состоянии с этим мириться, и, порвав все отношения с другом, покинул враждебные стены. Жить стало негде, и выход оставался только один: уезжать из страны как можно быстрее. Тем более что литературная жизнь Ирландии все более раздражала Джойса и выполнять свою миссию в такой обстановке он не мог. Написав Норе письмо о невозможности существовать в стране, где «нет жизни, нет ни естественности, ни честности», он начал принимать все меры к предстоящему отъезду, на сей раз окончательному. Первое, что сделал Джойс для того, чтобы ускорить осуществление своего намерения, – занял денег у всех, кто не мог ему отказать в этой просьбе. Говорят, он брал в долг даже предметы домашнего обихода, вплоть до таких мелочей, как зубной порошок (ничего своего у него не было). 9 октября 1904 года Джеймс и Нора навсегда уехали из Ирландии. Еще до отъезда писатель успел позаботиться о том, чтобы обеспечить себе за границей стабильный заработок, и вакантная должность не заставила себя ждать. В начале XX века по всей Европе была раскинута сеть так называемых Школ Берлица, где преподавали иностранные языки для взрослых. В одной из таких школ, расположенной в Цюрихе, и предложили место Джойсу. Однако должность оказалась занята, и писателя отправили в захолустный городок Пула, а оттуда – в Триест. С первого взгляда на этот город художник пришел в восторг, и неудивительно, что он прожил в Триесте следующие 10 лет. Спустя несколько месяцев после прибытия он уговорил приехать туда своего брата Станни, который всегда исполнял роль верного помощника во всех его делах. Конечно, моральная поддержка брата Джойсу не помешала, но еще важнее была регулярная финансовая помощь, в которой Станни никогда не отказывал Джеймсу, патологически не умевшему зарабатывать и экономить деньги. Несмотря на то что с отъездом из Ирландии весь материальный мир (кроме Норы) отодвинулся от писателя еще дальше и утратил значение даже литературного материала, деньги были необходимы Джойсу хотя бы для того, чтобы голодная смерть не помешала ему исполнить свою великую миссию. Летом 1906 года в Школе наступил финансовый кризис, и для того, чтобы добыть какие бы то ни было средства к существованию, Джойс отправился в Рим, где недолгое время занимал скромную должность банковского служащего. Скучная, утомительная, бессмысленная работа пришлась не по душе деятельному и энергичному Джеймсу, а довольно скудное ежемесячное жалованье он в силу широты своей натуры моментально тратил (по большей части на выпивку). Да и сам Рим Джойсу не понравился, напомнив писателю, по его собственному выражению, «человека, промышляющего тем, что показывает желающим труп своей бабушки». Так, бросив работу в банке, Джойс вернулся в Триест, где его по-прежнему ожидала нищета. Нора во второй раз была беременна (у Джойса уже имелся сын), и в июле 1907 года в палате для бедняков она родила дочь, получив благотворительное пособие. Материальные возможности Джеймса, который к тому же всегда мог рассчитывать на кошелек верного брата, вполне позволяли ему вести безбедное существование, но он никогда не стремился жить по средствам, считая расточительность достоинством. Однако вскоре финансовое положение Джойса несколько наладилось, и он поспешил использовать этот короткий промежуток стабильности для воплощения в жизнь своего давнего намерения, а именно – визита на родину. Некоторые произошедшие там события убедили его никогда более не пытаться восстановить утраченную связь с покинутой страной. В 1907 году писатель закончил сборник рассказов «Дублинцы» и теперь предпринимал попытки опубликовать его у себя на родине. Однако издатели один за другим отвергали «неприличную» книгу, в которой, кстати, на взгляд современного человека, нет ни малейшего намека на непристойность. В конце концов автор обратился к некоему Дж. Роберте, с которым некогда был хорошо знаком. Сначала издатель согласился, правда потребовав от Джойса внесения бесчисленных изменений и купюр, и в 1912 году писатель приехал в Ирландию только для того, чтобы наконец увидеть выход в свет своего детища. Но издатель поразил и просто уничтожил его, объявив уже отпечатанный сборник непатриотичным, и в один прекрасный день книга была в буквальном смысле казнена. И это поистине трагическое для Джойса событие стало причиной полного разрыва с родиной. Писатель принял решение больше никогда не возвращаться в Ирландию. Последовавший за этим период стал одним из самых тяжелых в жизни Джойса. Дерзкий и жестокий сатирический памфлет «Газ из горелки», адресованный ирландским литераторам и написанный как отклик на драматическую эпопею с «Дублинцами», лишил его всех возможностей печататься. До 1914 года писатель пребывал в глубоком и безнадежном отчаянии. Перелом наступил тогда, когда известный литератор Эзра Паунд, одним из первых по-настоящему оценив дарование Джойса, предложил ему печатать свои произведения в 4 журналах, одним из которых был лондонский «Эгоист». В то время главой редакции журнала была некая английская дама по имени Харриет Шоу Уивер, отличавшаяся большой любовью к искусству модернизма. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, прочитав сочинения Джойса, она стала страстной его почитательницей и в течение долгих лет всячески содействовала ему в вопросах публикации. Кроме того, что было не менее важно для автора, она предлагала ему и материальную помощь. Сначала мисс Уивер пыталась делать это в скрытой, завуалированной форме, придумывая всевозможные поводы для того, чтобы обеспечить финансовую свободу своего гениального протеже. Однако впоследствии наблюдательная женщина обнаружила, что предоставляемая ею помощь ни в коей мере не унижает и не травмирует писателя, а потому начала уже открыто заботиться о его благосостоянии и комфорте. Разумеется, творческие дела Джойса тоже наладились. После публикации в «Эгоисте» «Дублинцев» и «Портрета художника в юности» окрыленный надеждой автор вернулся к своим прежним замыслам, осуществить которые раньше мешала тяжелая депрессия, вызванная одиночеством и враждебным непониманием со стороны коллег. И самым значительным, самым великим из этих замыслов было создание романа «Улисс». Грандиозному труду всей жизни сопутствовали различные мелкие досадные недоразумения вроде Первой мировой войны (а именно таким это событие и представлялось Джойсу), заставившей писателя вместе с семьей покинуть Триест и поселиться в Цюрихе, где успешно продолжалась работа над романом. Финансовые дела Джойса постепенно наладились благодаря помощи многочисленных друзей и коллег. Знакомые влиятельные литераторы добивались всевозможных субсидий для талантливого автора, мисс Уивер с 1917 года начала регулярно заниматься меценатством, а спустя некоторое время к ней присоединилась американская миллионерша Эдит Маккормик, очередная поклонница творчества Джойса. Вместо дешевых забегаловок, которые в Триесте были для писателя излюбленным местом проведения досуга, он стал регулярно посещать престижные и дорогие кафе и рестораны. Теперь у него появилась возможность отбросить пустые заботы о хлебе насущном и полностью отдаться творчеству. Создание романа с головой захватило писателя и подчинило себе всю его жизнь, все его деяния и помыслы. Он не желал замечать ничего и никого вокруг; все происходившие события нисколько его не интересовали. По окончании войны ненадолго вернувшись в Триест и не найдя в этом городе ничего, что удерживало его там ранее, Джойс по совету Паунда отправился в Париж. Приехав туда, писатель с некоторым удивлением обнаружил, что является едва ли не центром местной литературной жизни и имеет много поклонников. Полезные знакомства (к примеру, с состоятельной американкой Сильвией Бич, которая не преминула пойти по стопам мисс Уивер) возникли как бы сами собой. Казалось бы, все стремятся помочь своему кумиру скорее завершить работу и улучшить его материальное положение. На этом фоне продолжался поистине непосильный, каторжный труд над романом, который к тому же никто не решался напечатать по той же причине, что некогда «Дублинцев»: из-за «непристойного», «аморального» содержания. 21 октября 1921 года монументальный труд был наконец завершен. Роман выжал из автора все соки: к этому моменту он был совершенно обессилен и опустошен. Восприятие «Улисса» отчасти было подготовлено ближайшим окружением самого Джойса, считавшего своим долгом развернуть активную кампанию по его пропаганде. По сути это была рекламная акция, в которой автор принимал самое живое и деятельное участие. Популярность и стоимость книги повышали как хвалебные, так и негодующие критические высказывания, поэтому главным было их количество. И волна критики, благодаря стараниям Джойса и поклонников его творчества, не заставила себя ждать. Главной реакцией было, пожалуй, недоумение: слишком много оказалось в романе загадочного и непонятного. К автору неоднократно обращались с просьбами о разъяснении, но в свойственной ему манере Джойс пренебрегал чужими мнениями. Однако вскоре даже для него стало очевидным, что, не объяснив читателю сути своей книги, он не сделает ее популярной, и несколько лет спустя Джойс открыл миру секреты «Улисса». Как бы то ни было, появление «Улисса» стало настоящей сенсацией и принесло автору огромный успех и мировую славу. С этого момента образ жизни писателя стал устойчивым и стабильным, как в материальном плане, так и в духовном. Первое место в жизни Джойса по-прежнему занимало искусство, и после окончания «Улисса» труд его стал воистину адским. Писатель не только упорно работал сам, но и в силу природной способности (а порой и склонности) управлять людьми в своих целях так или иначе заставлял помогать ему всех, кто находился рядом. По словам Филиппа Супо, близкого знакомого Джойса, все окружение художника превратилось в своеобразную «фабрику Джойса», где каждый приносил себя в жертву его труду. Тем не менее аскетом писатель пока не стал. Свободное от творчества время (а оно иногда находилось) он, как и прежде, проводил в веселой компании, за интересным разговором и бокалом хорошего вина, поражая и очаровывая собеседников своим остроумием. Но даже в часы досуга все его мысли были заняты искусством и все разговоры вращались вокруг этой темы. Огромное место в жизни художника занимала семья. Она для Джойса была единственным явлением окружающей действительности, сохранившим ценность. Более того, он ставил ее, пожалуй, не ниже, если не выше, своего творчества. Писатель был преданным, нежным и любящим по отношению к двум своим детям, а Нору в прямом смысле слова боготворил. Как любой другой человек, будь то даже самый великий художник, Джойс обладал даром любви к ближнему, и, равнодушный ко всему миру, он без остатка излил это чувство на свою семью. Однако в силу своего нынешнего положения даже при всем желании Джойс не мог бы проводить время исключительно в работе или в кругу семьи. Став великим писателем, он вынужден был вести светскую жизнь, появляться в обществе. Несмотря на то что все это безумно его тяготило, художник продолжал посещать великосветские мероприятия, встречаться с журналистами и поклонниками. Очевидно, испытывая презрение ко всем этим людям, он, как ни странно, все же не желал отказываться от их уважения и симпатии, а главное – от популярности и успеха. А между тем начался заключительный и самый трагический период в жизни Джойса. Связан он был с его последней работой – романом «Поминки по Финнегану», который исследователь творчества Джойса С. С. Хоружий назвал «самой странной книгой в мире». С этим мнением просто невозможно не согласиться: достаточно сказать лишь то, что роман написан на непонятном языке, выдуманном самим автором. Говорят, к концу работы над книгой даже сам Джойс не мог вспомнить значения многих созданных им слов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новую книгу, которую все с нетерпением ждали, после появления на свет отдельных ее эпизодов никто не мог понять; многие даже не в силах были дочитать ее до конца. И может быть, все это было бы не столь драматично для Джойса, если бы эту реакцию не испытали его ближайшие друзья, неутомимые рабочие «фабрики Джойса». Как они ни старались, им не удавалось найти ни тени смысла в туманном и хаотичном пространстве книги. Особенную тревогу вызывало отношение мисс Уивер, чья помощь до сего момента по-прежнему оставалась главным материальным источником творческой деятельности писателя. Понимая всю опасность такого положения вещей, Джойс любыми способами пытался заинтересовать меценатку своим новым творением, по мере сил разъяснить ей смысл и значение многих непонятных мест (в частности, написал ключ, по объему в несколько раз превышавший текст самого романа), но все его усилия не увенчались успехом. На этом этапе жизни Джойс действительно не мог писать по-другому: «непонятность» книги была не пустой прихотью автора, а внутренней потребностью души (к этому моменту он стал полагать, что исчерпал все возможности привычного английского языка). Художник ни в коем случае не хотел мириться с таким вполне естественным неприятием критики; до самой смерти он героически отстаивал ценность своего творения, всеми силами убеждая читателей принять его. Он был уверен в том, что люди обязаны посвящать свои жизни чтению его книг, и искренне недоумевал, когда они отказывались это делать. И это уже было настоящей трагедией. Отчаяние Джойса усугублялось еще и тем, что многие поклонники, прежде боготворившие писателя, ныне от него отвернулись. «Фабрика Джойса» прекратила свое существование, и лишь немногие сохранили былую верность художнику. От некогда кипевшей энергии писателя не осталось и следа. Резко ухудшилось его здоровье: с 1907 года Джойса мучила тяжелая болезнь глаз, которая впоследствии стала прогрессировать; бесчисленные операции не давали результатов, и к 1930 году художник почти полностью ослеп. Появились проблемы и в семейной жизни: казалось, единственный островок любви и доверия в огромном враждебном мире вот-вот погрузится в темный омут безумия. Это мрачное чувство было вызвано постепенно развивавшейся душевной болезнью дочери Лючии, которая проявлялась в беспочвенной и необъяснимой ненависти к Норе. Все это делало жизнь Джойса поистине невыносимой. И тем не менее странная книга была наконец завершена. Это дало автору повод для последней надежды – надежды на то, что, может быть, теперь ее поймут и оценят, и всемирная слава и всеобщий почет вернутся вновь. Исполнению этой мечты парадоксальным образом помешали некоторые факты внешней действительности, всегда глубоко презираемые Джойсом. Художник никогда не придавал значения войнам, революциям, глобальным историческим потрясениям, будучи убежден в том, что история способна только «комически повторять себя». Но начинавшаяся Вторая мировая война была уже чем-то более значительным и страшным, чем все пережитое прежде, и Джойс не мог этого не понимать. Вначале он все же пытался сохранить свое обычное презрительное равнодушие, считая надвигавшиеся события очередным повторением пройденного, лишенным всякой цели и смысла. На все оживленные и встревоженные разговоры он реагировал бесстрастными репликами вроде «Да, я слышал, какая-то война...». Но, несмотря на это, с течением времени стало понятно, что более сохранять эту позицию невозможно. Главная опасность войны для Джойса заключалась в том, что она могла воспрепятствовать миру прочитать «Поминки по Финнегану». Возможно, он даже полагал, что именно для этого она и началась. В первые дни войны писатель беспрестанно повторял: «Надо, чтобы они оставили в покое Польшу и занялись „Поминками по Финнегану“». Но вскоре, помимо этой серьезной проблемы метафизического свойства, война принесла Джойсу и его семье весьма ощутимые бытовые неудобства. Париж заполонили войска; постоянные бомбежки делали существование обессиленного, морально истощенного писателя мучительным. Всеобщее бедствие уже казалось Джойсу чем-то ничтожным и не стоящим внимания, но в то же время он не мог в один миг отказаться от своих принципов, которые пронес через всю жизнь.
Несмотря на кажущуюся абсурдность суждений (в частности, относительно «Поминок»), Джойс до самой смерти сохранил трезвый рассудок и теперь прекрасно отдавал себе отчет в том, что было бы по меньшей мере смешно и глупо в свете надвигавшегося Апокалипсиса полагать главной трагедией отсутствие интереса критики к своей книге. Но думать по-другому он просто не мог: это означало бы, что абсурдом была вся его прежняя жизнь. Выхода больше не было. Оставалось напиваться до бесчувствия, выбрасывать последние деньги на ветер и без конца твердить: «Мы быстро катимся вниз». В 1940 году, когда жить во Франции стало невозможно, семья писателя переехала в Швейцарию. Здесь художник провел свои последние дни: 13 января 1943 года одиссея Джеймса Джойса закончилась. Заплати налоги и иди на паперть.П. Дж. ПробиНастоящее его имя было Джеймс Маркус Смит. Он родился в достаточно обеспеченной техасской семье в 1938 году. Родители прочили ему военную карьеру и устроили в военную академию, но очень скоро Смит понял, что жесткая армейская дисциплина, уставной распорядок и субординация – это не для него. С легким сердцем он покинул стены академии и отправился на поиски славы и «длинного доллара» в Мекку актеров и певцов – Голливуд. Талант у парня был. Он отлично пел, причем одинаково хорошо мог исполнять кантри, рок-н-ролл, оперу и блюзы. Конечно, ему было понятно, что с именем Джеймс Смит карьеру на «фабрике грез» не сделать, и он стал Джеттом Пауэрсом... На некоторое время. Карьеру он начинал с того, что подражал Элвису Пресли. Не так, правда, как затем это делали многочисленные последователи короля рок-н-ролла, сделавшие карьеру в 60-е годы ХХ века, отнюдь нет. Просто не королевское это дело – исполнять грязную работу, а потому именно Пауэрс-Смит делал демонстрационные записи для фильмов с участием Пресли. Жизнь он вел вполне богемную. Оттягивался по полной в компании с друзьями и знаменитостями, ночуя то в гараже, то у товарища, а порой и в полицейском участке, куда его периодически забирали за нарушение общественного порядка. Собственно, именно полиции, а вернее, термину уголовного законодательства США «probation», то есть «освобождение на поруки», он и обязан появлению своего псевдонима, Проби, который он принял при подписании контракта с фирмой «Liberty». Карьеру певца он начал в 60-х годах. Сначала ему помогала известная в музыкальном мире дама по имени Шарон Шили, которая в 1963 году привезла в Штаты любительскую съемку выступления британских рокеров. П. Дж. Проби (инициалы – своеобразный реверанс в сторону предыдущего псевдонима) посмотрел на вокал таких культовых английских певцов, как Клифф Ричард, Адам Фейт и другие, – и пришел к неутешительному для жителей туманного Альбиона выводу – петь в Великобритании не умеют. Впрочем, если продюсер Джек Гуд, к тому времени перебазировавшийся в США, сумел раскрутить этих, по мнению Проби, бездарных и безголосых певцов, то что он сможет сделать с настоящим гением! А П. Дж. Проби таковым себя считал. Он отправился к Гуду и сразу получил место в новом телевизионном шоу. Но не за вокал, а за длинные волосы. Шоу должно было называться «Young America Swings The World», и предполагалось, что оно станет настоящим взрывом мирового масштаба. Но грандиозным планам не дано было осуществиться. Именно в этот момент на мировую арену вышли «The Beatles», и Америка утратила статус первой скрипки. Ливерпульские «Жуки» впечатления на Проби не произвели. Он отправился в Англию, дабы показать местным, как надо петь. В Голливуде он задержался ровно настолько, насколько это было необходимо для обзаведения приметным гардеробом. Трудно сказать, нужен ли был ему этот набор бархатных сюртуков, расклешенных брюк и туфель с огромными пряжками, если взял англичан он совершенно другим. Дебютировав на сцене «Альберт-холла» (концерт, кстати, транслировался по телевидению), он умудрился оттеснить на второй план Фейта, звезду этого шоу. У чопорных британцев, едва привыкших к тому, что прически Битлов – это не признак слабоумия, а творческий имидж, поотваливались челюсти, да так до конца выступления Проби и не закрылись. Тот не только додумался обнажить грудь и собрать волосы в хвостик (это в 1964 году-то!), он еще и дразнил публику языком, попутно виляя задом. Конечно, где-нибудь в гарлемском зале «Апполо» такое поведение восприняли бы как само собой разумеющееся, но в Англии! Подданные британской короны были шокированы. Они-то ожидали, что он исполнит свой хит «Hold Me», а П. Дж. устроил им отвязанное шоу в сопровождении духовых инструментов и полуодетых девиц на подпевках и под музыкальный аккомпанемент таких знаменитостей, как Джимми Пейдж на ритм-гитаре, Большой Джим Салливан на соло, Чарльз Блэкуэлл на фортепьяно и Джинджер Бейкер на барабанах. Успех был. Более того, успех был просто ошеломительный, и Проби решил ковать железо не отходя от кассы. Заметив, что «The Beatles» несколько раз продавали не подошедшие им по каким-либо причинам песни другим исполнителям, П. Дж. отправился к Джону Леннону и приобрел великолепную и, кстати сказать, написанную в основном Полом Маккартни «That Means A Lot». Более того, окончательно обнаглевший техасец обратился с просьбой заняться записью песни к самому Джорджу Мартину, продюсеру Битлов. Что интересно, тот согласился, и в сентябре 1965 года песня заняла 24-е место в британском хит-параде. Но все же бешеную – в прямом смысле этого слова – известность ему принесли не только и не столько песни, сколько его совершенно безумные выходки. Впрочем, они же породили и неприятности. Чего он только не откаблучивал. То, что на съемках передачи «Top Of The Pops» Проби, подобно цирковому тигру, прыгнул сквозь обтянутый бумагой обруч, немало изумив этой своей импровизацией режиссера, оператора и ведущих, – это еще цветочки. А вот когда у него 3 дня подряд лопались по шву брюки... Его чуть не сняли с гастролей, а к показу по телевидению запретили. И это как раз тогда, когда его песни из «Вестсайдской истории» в его обработке начали приносить ему все большую славу и популярность. Винить себя он отказался категорически, углядев во всем этом заговор против восходящей звезды, тем более что приближался март 1966 года – время, когда истекало его разрешение на работу в Соединенном Королевстве. Надо отметить, что Проби отличался прямо-таки фантастическим чутьем и интуицией при подборе материала для концертов. Он стал первым исполнителем, записавшим в Британии знаменитую песню Джеймса Брауна «I,ll Go Crazy». Затем П. Дж. взялся озвучивать американские хиты, неизвестные в Европе. Это были и гершвиновский «It Ain,t Necessarily So», и старенький, но очень хороший «Ling Ting Tong», и подцепленный у битников в Хайт-Ашбери «Niki Hoeky». Последние две песни содержали в себе явный намек на анашу, курение которой Проби изображал на сцене во время исполнения, за что и был изгнан из Англии во время очередных гастролей. Британские чиновники даже не посмотрели на то, что его последний диск стал «золотым». А тут подоспели и новые неприятности, гораздо более серьезные. Оказывается, весь этот период популярности и процветания он не платил налоги. Сажать его, подобно Капоне, которого удалось привлечь к уголовной ответственности по той же (исключительно) статье, не стали, но в 1968 году Проби был вынужден отдать налоговикам миллион долларов, «роллс-ройс» и частный самолет, после чего был признан банкротом. Он попытался подняться вновь, да и чувство юмора ему не изменило, однако качество музыки было уже не то. При записи альбома «Three Week Hero» ему подыгрывали начинающие «Led Zeppelin», но использовать их по полной программе ему не удалось. Его непредсказуемое поведение стало причиной того, что в 1970 году ему указали на дверь в мюзикле Джека Гуда «Catch My Soul». Затем он пытался подрабатывать в различных телешоу, а несколько позже записал совместный диск с голландской группой «Focus». Последний раз им всерьез заинтересовались благодаря его старому другу Элвису Пресли, очень кстати для Проби скончавшемуся. Джек Гуд моментально оценил обстановку и превратил ее в постановку «Elvis The Musical» с П. Дж. в главной роли. И все. Проби покатился под горку и сильно запил. Он зарабатывал свой хлеб насущный тем, что пел в кабаках. Иногда, очень редко, его приглашали принять участие в каких-нибудь ностальгических передачах, где ему всегда задавали три вопроса: «Зачем вы рвали на себе брюки?», «Почему вы живете с девушкой-подростком?» и «Правда ли, что вы существуете на пособие по безработице?». На последний вопрос он неизменно отвечал: «Нет, мне не дают пособие по безработице, мне платят социальное пособие». Проби уже полностью списали со счетов, но в 1981 году судьба свела его с двумя книгоиздателями, заинтересованными в том, чтобы выпустить мемуары о богатой событиями жизни П. Дж. Из проекта не вышло ничего. Вернее, ничего литературного. Зато получились пластинки. Уже с 1985 года стараниями не смысливших в музыке ровным счетом ничего издателей Проби начал записывать граничащие с пародией версии текущих хитов – таких, как «Tainted Love» Soft Cell, «In The Air Tonight» Фила Коллинза, «Heroes» Боуи, «Sign „O“ The Times» Принса, «Anarchy In The UK» Sex Pistols. Это было отнюдь не то, что желал сам Проби, который предпочитал всем жанрам и направлениям музыки кантри. Он ненавидел это свое творчество всеми фибрами души и... продолжал пить по-черному. Все, включая его самого, были уверены, что П. Дж. Проби кончился. Удивительно, но факт, эти коммерчески провальные пластинки снискали самые добрые отзывы критиков. Правда, юристы Мадонны обещали устроить Проби «сладкую жизнь» за полупорнографическую перелицовку песни «Hardcore 97002», однако судиться все же не стали. Не из человеколюбия, а просто отсутствовал смысл, ведь за душой у П. Дж. не было и ломаного цента, а сажать его в тюрьму за какие-то там песенки Мадонна не пожелала. Тем более что он там уже побывал за бродяжничество. Перелом в его жизни наступил после смерти матери в 1992 году. П. Дж. бросил пить, прошел курс лечения от алкогольной зависимости и вновь начал писать музыку и песни. Марк Олмонд записал в дуэте с ним «Yesterday Has Gone», а Джек Гуд, когда-то клявшийся, что иметь с Проби дела больше не будет, дал ему роль в шоу «Good Rockin Tonight». И вот дела его пошли в гору. Тогда, когда все думают о пенсии, П. Дж. Проби вновь начал путь к вершине славы. И он своего добьется. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||