|
||||
|
|
Часть 1ПОСЛЕДНЯЯ ОБЕЗЬЯНА
ГЛАВА ПЕРВАЯЧЕЛОВЕК ПРОИСХОДИТ ОТ ДАРВИНА Чарлз Дарвин столь знаменит, что я обещаю не писать (или почти не писать) о следующих фактах: Что Дарвин был великим ученым. Что как-то он ловил жуков, пришлось одного сунуть в рот и это кончилось не очень хорошо для ловца и совсем неплохо для жука. Что Дарвин напечатал в 1859 году «Происхождение видов», а в 1871-м — «Происхождение человека». Что сторонник Дарвина профессор Гексли срезал на диспуте одного епископа, не желавшего происходить от обезьяны. Что, несмотря на свою гениальность, Дарвин кое-чего еще не знал. И кое-что недооценивал. Труды Дарвина обладали двумя качествами, необходимыми для того, чтобы почти каждый хоть что-нибудь слышал о них. Первое качество (не главное) — гениальность. Второе (главное) — скандальность результатов. Наивысшим признанием неслыханной популярности ученого было изречение, записанное Жюлем Ренаром: «Человек происходит от Дарвина». Незадолго до смерти Дарвин не без удивления заметил: «Происхождение видов» переведено почти на все европейские языки, даже на испанский, чешский, польский и русский. На еврейском языке появился очерк, в котором доказывается, что это учение можно найти в Ветхом Завете! Отзывы о моей книге были очень многочисленны: сначала я начал было собирать все, что появлялось в печати по поводу «Происхождения», но когда число этих отзывов (не считая газетных отчетов) дошло до 265, я остановился. Вышел целый ряд брошюр и книг по этому вопросу, а в Германии периодически издаются библиографические каталоги, посвященные «дарвинизму». Слово «дарвинизм» кажется ученому настолько странным и смешным, что он заключает его в кавычки. Но о Чарлзе Дарвине, тысячекратно воспроизведенном или искаженном в книгах и статьях, философских эссе и кинофильмах, все же нельзя, как я убедился, не написать в 1001-й раз. Мое убеждение основано на личном опыте, который заключаегся в том, что, имея безусловную пятерку по дарвинизму в школе и успешно защищая теории сэра Чарлза на университетских экзаменах, я все же ухитрился и тогда и много лет спустя сохранять довольно ложное представление о многих важных сторонах этого учения и упорно подозреваю, что был в своих заблуждениях не одинок. Сущность моего дарвинизма сводилась к двум аксиомам: 1. Виды меняются, человек же происходит от обезьяны. 2. Все это совершенно ясно, и только где-то за тридевять земель еще сохранились философы и архиепископы, которые Дарвина читали, но не согласились: ничего не поняли. По классификации Гумбольдта я твердо стоял в рядах партии «Кто же этого не знает!». И был наслышан о существовании обреченной фракции «Какая чушь!». Я даже, честно говоря, не очень понимал, за что так хвалят Дарвина: ну, разумеется, он первым заметил важные вещи, но эти вещи совершенно очевидны, ибо нельзя же серьезно сомневаться в том, что растительные и животные виды меняются, а человек происходит от обезьяны. Позже, много позже, помню, меня поразили строки из «Автобиографии» Дарвина: «Успех «Происхождения» иногда приписывался тому, что «идеи эти уже носились в воздухе» и что «умы были к нему подготовлены». Думаю, что это не совсем верно: я разговаривал по этому поводу со многими натуралистами и не встретил ни одного, который сомневался бы в постоянстве видов. Даже Ляйелль и Гукер, с интересом прислушивавшиеся к моим мнениям, по-видимому, никогда не соглашались с ними. Дважды я попытался объяснить знающим специалистам, что я понимаю под естественным отбором, но безуспешно». Тут я должен остановиться, перенеся на несколько страниц вперед продолжение глубокомысленных рассуждений: «Кто же не знал, что человек от обезьяны!..», и поговорить об «Автобиографии» Дарвина. сочинении в высшей степени замечательном. Строго говоря, к «Автобиографии» неприменимы привычные для такого жанра измерения — «объективность, субъективность, скромность, нескромность, самооправдание, исповедь, завещание потомству». Это интереснейший научный эксперимент, эксперимент на себе самом, не менее важный и героический, чем испытание на себе новой вакцины. Дарвин, первоклассный биолог, просто-напросто стремится описать такое интересное явление природы, такую примечательную «особь», как его собственная персона. Не сделать этого ему, находящемуся в исключительно благоприятных условиях по отношению к объекту исследования, невозможно, просто оскорбительно для достоинства ученого. Вот как задача формулируется: «Судя по успеху моих трудов в Англии и за границей, я считаю, что известность моя продержится еще несколько лет. Интересно поэтому проанализировать те мои умственные способности, от которых успех этот зависел». Потом решается: «Я не обладаю ни быстротой соображения, ни остроумием. Поэтому я очень слабый критик: всякой прочитанной книгой я сначала восторгаюсь, а затем уж после долгого обдумывания вижу ее слабые стороны. Мои способности к отвлеченному мышлению слабы, поэтому я никогда не мог бы сделаться математиком или метафизиком. Память у меня довольно хорошая, но недостаточно систематичная. Я обладаю известной изобретательностью и здравым смыслом, но не более, чем любой средний юрист или врач». Дарвин не исчерпывает этим коллекцию своих недостатков. Его внимание привлекает «атрофия художественных вкусов»: «До тридцати лет и даже немного позднее я очень любил поэзию: еще в школьные годы я с наслаждением зачитывался Шекспиром, особенно его историческими драмами. Я уже говорил, что в молодости любил живопись и музыку. Но вот уже несколько лет, как я не могу вынести ни одной стихотворной строки; пробовал я недавно читать Шекспира, но он мне показался скучным до тошноты. К живописи и музыке я тоже почти совсем охладел. Музыка, вместо того чтоб доставлять удовольствие, заставляет меня еще лихорадочнее думать о том, чем я в данную минуту занимаюсь. Прежнюю любовь я сохранил только к природе, но и она уже не доставляет мне того наслаждения, как в молодости. А между тем романы за последние годы для меня — самый лучший отдых и большое развлечение. Я частенько благословляю всех романистов без исключения. Мне перечитали вслух бесчисленное множество романов, и все они мне нравились, если только они не написаны из рук вон плохо и если они счастливо оканчиваются. Я вообще издал бы закон против романов с несчастным концом!» Так писали или могли написать о себе многие люди. Но многие ли удержались бы от двух искушений: искушение первое — превратить недостаток в достоинство, гордо выставить наготу свою, насмехаясь над эстетами; искушение второе — жестокое и сладкое самобичевание, самоуничижение, покаяние. О Дарвине же нельзя и сказать, что он обходит искусительные ловушки. Он просто не замечает их, потому что движется совсем по другой тропе: «Эта потеря всех высших эстетических вкусов тем более удивительна, что исторические сочинения, биографии, путешествия (независимо от их научного содержания) и всякого рода статьи продолжают меня интересовать по-прежнему. Ум мой превратился в какой-то механизм, перемалывающий факты в общие законы, но почему эта способность вызвала атрофию той части мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы, я не могу понять. Человек с более высокой организацией ума, вероятно, не пострадал бы, как я, и, если б мне пришлось во второй раз пережить свою жизнь, я бы поставил себе за правило хоть раз в неделю читать стихи и слушать музыку: таким образом, все клеточки моего мозга сохранили бы живучесть. Атрофия художественных вкусов влечет за собой утрату известной доли счастья, а может быть, и вредно отражается на умственных способностях». Но это еще не все утраты и пробелы (Дарвин ученый основательный). Оказывается, в молодости он сильно возненавидел анатомию и хирургию, особенно после того, как узнал, что отец оставит приличное состояние, и «неумение анатомировать оказалось непоправимым злом, так же как мое неумение рисовать» (не умевший рисовать в XIX веке подобен не умеющему фотографировать в XX). Сообщив о том, что он фактически не знает иностранных языков, Дарвин признается, наконец, в самом страшном грехе: он потерял в жизни массу времени попусту. «От моего пребывания в школе не было никакого толка…» «Хотя в моей кембриджской жизни были и светлые минуты, время моего пребывания там я считаю потерянным и даже хуже, чем потерянным. Моя страсть к стрельбе и к верховой езде сблизила меня с кружком любителей спорта, между которыми были молодые люди сомнительной нравственности. Мы часто обедали компанией: хотя на этих обедах бывали люди и посерьезнее, но частенько мы пили не в меру, а затем следовали веселые песни и карты». Но Дарвин не был бы Дарвином, если бы прямо вслед за этими строками не приписал: «Мне следовало бы стыдиться потерянных таким образом дней и вечеров, но среди моих друзей были такие славные юноши и всем нам было так весело, что я и теперь вспоминаю это время с удовольствием», Черный список слабостей и недостатков завершается тонким научным выводом: «Удивительно, что при таких средних способностях я мог все же оказать значительное влияние на взгляды людей науки по некоторым важным вопросам». Естественно, такой объективный исследователь не мог быть односторонен — и вот уже следует продуманный список доводов «во здравие». Разумеется, Дарвин не забывает, что ему сопутствовали благоприятные жизненные обстоятельства. Приличное состояние обеспечивало «достаточное количество свободного времени», а плохое здоровье «хотя и отняло у меня несколько лет, зато избавило меня от потери времени на развлечения и светскую жизнь». К счастливейшим случайностям Дарвин относит и то обстоятельство, что его когда-то взяли в пятилетнее плавание вокруг света на корабле «Бигль». Отец не хотел его отпускать, но поддался уговорам дяди. Капитану же «Бигля» поначалу не понравилась форма носа молодого Дарвина, свидетельствовавшая о «недостатке энергии и решимости». «Путешествие на «Бигле», — пишет Дарвин, — было самым важным событием моей жизни, определившим всю мою последующую деятельность, а между тем оно зависело от такого ничтожного обстоятельства, как предложение моего дяди прокатить меня за тридцать миль в Шрюсбери (к отцу), чего другой дядя, конечно, не сделал бы, и от такого пустяка, как форма моего носа». Но и в жизни и в теории Чарлз Дарвин, уважая всяческие случайности, еще больше ценил и искал закономерности, и поэтому рядом со строками, способными кое-кого умилить своей чрезмерной скромностью, появляются отрывки, способные поразить кое-кого ужасной нескромностью: «Я, по-видимому, превосхожу большинство людей своим умением замечать те факты, которые обычно ускользают от многих, и с большим вниманием наблюдать за ними. Мое трудолюбие в собирании и наблюдении фактов, кажется, не могло бы быть большим. Но, что всего важнее, меня влекла к естествознанию страстная и никогда не изменявшая любовь». Эта любовь занимает Дарвина — ученого как важное отличительное свойство его индивидуальности: «Страсть к собиранию коллекций, которая делает из человека или натуралиста-систематика, или скупца. была во мне очень сильна, страсть, очевидно, врожденная, а не привитая воспитанием, так как она не проявлялась ни у сестер, ни у брата». В «Автобиографии» упоминается о двух примечательных ситуациях, вызвавших у Дарвина удивление и непонимание. Первый эпизод связан с университетским товарищем Грантом: «Он был несколькими годами старше меня, и, как мы с ним познакомились, я уже не помню. Он напечатал несколько превосходных работ по зоологии, но, получив профессорскую кафедру при Лондонском университете, перестал заниматься наукой, чего я никогда не мог понять. Я его знал очень хорошо; под внешней сухостью и формализмом в нем скрывался истинный энтузиаст». Действительно, как истинный энтузиаст может жить, не занимаясь наукой, когда это так интересно? Вторая история произошла в Кембридже. Однажды юного Дарвина удостоил беседой известный геолог, профессор Седжвик: «Мой разговор с ним в тот вечер произвел на меня большое впечатление. Какой-то рабочий нашел по соседству в песочной яме большую выветрившуюся раковину, вроде тех тропических раковин, которыми часто украшают камины в деревенских коттеджах. Рабочий этот ни за что не соглашался продать мне свою находку, и это еще больше убедило меня в том, что раковина действительно вырыта из песочной ямы. Я рассказал об этом Седжвику, и тот ответил мне, что, вероятно, кто-нибудь выбросил эту раковину в яму, как это, должно быть, и было. «Если бы в этой яме была действительно найдена тропическая раковина, — продолжал Седжвик, — это было бы истинным несчастием для геологии, так как перевернуло бы вверх дном все, что нам до сих пор известно о поверхностных отложениях средних графств». И действительно, эти пласты песка относятся к ледниковому периоду, и позднее я находил в них обломки арктических раковин. Но тогда меня очень удивило равнодушие Седжвика к такому удивительному факту, как находка тропической раковины в самом центре Англии». Дарвин уже в то время, вероятно, догадывался, что профессор, который не заинтересуется тропической раковиной в центре Англии, не перевернет науку, если даже очень захочет (в той конкретной раковине никакого особого смысла не было, но как же не проявить никакого интереса!!). «С самой ранней юности я стремился понимать или объяснять все, что наблюдал, то есть группировать факты и подчинять их общим законам. Вот эти качества моего ума и позволяли мне в течение долгих лет терпеливо обдумывать тот или другой неразрешенный вопрос. Насколько я могу судить, я вообще не склонен слепо подчиняться постороннему влиянию. Я всегда старался быть совершенно беспристрастным и умел отказываться даже от самой облюбованной гипотезы, как только факты оказывались в противоречии с нею. Да у меня и не было другого выхода, потому что, за исключением коралловых рифов, не было ни одной первоначальной гипотезы, которую мне не пришлось бы впоследствии оставить или значительно изменить, что внушило мне недоверие к дедуктивному методу мышления». Может быть, это несколько наивное «у меня и не было другого выхода…» лучше всего определяет, что такое настоящий ученый. У него просто «нет другого выхода», кроме истины, а кругом удивляются, как это он ни разу не солгал. И все же об одном из своих важнейших достоинств Дарвин не упомянул. Впрочем, может быть, потому не упомянул, что оно легко выводится из всего, что упомянуто. Достоинство заключается в том, что Чарлз Дарвин был очень хорошим человеком. Вопрос о сочетании гения и добродетели не более ясен, чем проблема «гений—злодейство». Но. как бы ни стояли вопросы и проблемы, необходимо повторить: Дарвин был очень хороший человек, и это помогало ему в научной работе (может быть, работа у него была такая?). Увлеченность, интерес к делу — без них ничего бы он не искал. Объективность, отсутствие даже тени самомнения — без этого ничего бы не нашел. В книге «Происхождение человека» есть такие строки: «Только наши предрассудки и высокомерие, побудившие наших предков объявить, что они произошли от полубогов, заставляют нас останавливаться в нерешительности перед этим выводом» (о животных предках человека). Я убежден, что надо было, между прочим, обладать немалым иммунитетом против высокомерия и предрассудков, чтобы преодолеть общепринятую нерешительность. Но мало этого. Доброта, добродушие, сострадание к людям — Дарвин как-то вскользь обронил замечание, что его не удовлетворяло религиозное объяснение жестокости и страдания, существующих в мире: предопределенность гибели, взаимного пожирания миллионов существ. Он не мог поверить, что все это наказание, возмездие божье. Творец, если б он был, не мог бы действовать так беспощадно — вот примерно ход мыслей доброго Дарвина. Его теория естественного отбора не делает природу добрее, но объясняет жестокость ее как естественный порядок вещей, не примешивая к этому «высокую мораль», божье наказание, то есть не оправдывая. «Так устроен мир», — констатирует Дарвин. Может быть, недобрый человек труднее отрекся бы от божества? Может быть, в числе множества причин, приведших к созданию дарвиновской теории, известную роль сыграла и такая ненаучная категория, как доброта самого теоретика? Итак, увлечение плюс объективность, плюс доброта — разве в сумме не получается хороший человек? «Я был довольно добрым ребенком, — пишет Дарвин, — но этим я всецело обязан внушениям и примеру сестер, так как сомневаюсь, чтобы эти качества могли быть врожденными». А теперь снова к обезьянам, оставленным несколько страниц назад, и снова к важным строкам Дарвина: «Я разговаривал со многими натуралистами и не встретил ни одного, который сомневался бы в постоянстве видов». Я обращаюсь сейчас к читателю, тоже имевшему когда-то «пять» (и ниже) по дарвинизму, из партии «Кто же этого не знает!». У меня, читатель, от знакомства с жизнью и трудами Дарвина родилось странное желание: в ответ на ваше уверенное «человек — от обезьяны» опровергнуть вас, предъявить доказательства, что человек не от обезьяны… и только когда вы заспорите, сумеете защититься, доказать, тогда я готов согласиться, что человек от обезьяны, но обязательно потребую, чтобы вы признали, что тут еще много неизвестного и непонятного. Я готов биться об заклад с любым (кроме изучавшего этот вопрос специально), что если б довелось ему поспорить даже с такими старыми «противниками обезьяны», как, скажем, Карл Линней, Жорж Кювье, или даже с кем-нибудь помельче, вроде Агассица или ученого-герцога Аргайля, то был бы мой уважаемый современник нещадно побит упомянутыми учеными мужами. Я представляю этот диспут примерно так. Вы твердо знаете выводы дарвинизма, имеете право пользоваться любыми аргументами, кроме тех, о которых в XVIII–XIX веках просто не могли знать. Скажем, о том, что у человека иногда встречается рудиментарный хвост и что это неспроста, вы говорить можете, ибо хвосты бывали во все века. Но о синантропе или гейдельбергской челюсти—ни слова, так как выкопали их только в XX столетии. Кроме того, нет у вас права на употребление таких слов, как «кибернетика», «радиоуглеродный метод», «фашизм»… И вот что примерно произойдет. Вы: Человек произошел от обезьяны! (Если диспут публичный, то большинство аудитории в этот миг прогневается, но безопасность дарвиниста гарантируется условиями игры.) Он (ученый); Не сможете ли вы, милостивый государь, доказать столь ответственную теорему? Вы: Да это же ясно! Человек и обезьяна похожи-то как! Он: Ну и что же? Дельфин и рыба очень похожи, но дельфин — млекопитающее, то есть животное, можно сказать, «с другого полюса» животного мира. Вы: Я говорю не о внешнем сходстве, а о множестве существенных признаков, сближающих нас с шимпанзе, гориллой, орангом и другими обезьянами. Тут вы напрягаете память и говорите о сходстве в строении зубов, стопы, крови, зародышей. Вы обязательно вспомните, что обезьяны умеют смеяться, завидовать, стыдиться, пьянствовать и видеть сны, но вы не имеете права говорить об интереснейших опытах с обезьянами (Келлера, Павлова, Ладыгиной-Коте, Йеркса и других ученых XX века), ибо XX века по условиям еще нет. Он: Благодарю вас за содержательный перечень общих для обезьяны и человека признаков. Только осмелюсь заметить, что вы напрасно старались, так как я давно знаю о большом сходстве двуногих и, так сказать, четвероруких… Надеюсь, мой оппонент не столь самонадеян, чтобы предположить, будто многие наблюдатели и мыслители в наше время и в древности не замечали, что нет другой твари, столь сходной с человеком, как обезьяна. Вы: Вот видите, вы сами согласны. Он: С чем согласен? Вы: Если человек и обезьяна так похожи друг на друга, значит они состоят в близком родстве и происходят от общих прародителей, которыми, очевидно, могли быть только древние человекообразные обезьяны. И вот тут-то он вам задаст. На вас обрушивается град хорошо отработанных ударов. Во-первых, он извинится перед аудиторией за то, что не будет в споре с вами пользоваться такими аргументами, как существование бога, истинность священного писания, отвратительность самой мысли, что разумный человек происходит от вонючих, хитрых, презренных кривляк, и тому подобное. Обо всем этом он говорить не будет (и тут-то вы настораживаетесь, потому что для вас было бы проще, если б он обо всем этом говорил). Во-вторых, он предложит несколько, по его мнению, не менее убедительных объяснений сходства человека и обезьяны. Вот пожалуйста: 1. Когда создавались виды (и человек), то мог возникнуть сходный план (у бога, у природы — как вам угодно), который в одном благоприятном варианте дает человека, в другом — обезьяну: оба существа при этом совершенно независимы друг от друга, подобно двум похожим с виду горам, из которых одна, скажем, в Гималаях, а другая — в Андах. 2. Человек и обезьяна вообще одно и то же, и вопрос, кто от кого произошел, — бессмыслица. Так считал, например, прославленный Дидро, который, как вам известно, ни в бога, ни в сотворение не верил: просто образовалось когда-то живое существо, одно племя которого жило на деревьях (обезьяны), другое — в джунглях (дикари). Великий Линней, включив нас всех в вид «Homo sapiens»— «человек разумный», установил и второй человеческий вид «Homo troglodytes» — «человек дикий». Впрочем, еще древний историк Диодор Сицилийский рассказывал о народе, который великолепно лазает по деревьям, прыгает с ветки на ветку и не разбивается при падении. Орангутаны же пользуются палками и строят гнезда на деревьях. 3. Если уж вам необходимо, чтоб одни виды происходили от других, то почему — человек от обезьяны? С таким же успехом могла и обезьяна произойти от человека: представьте, что какая-то человеческая ветвь попала в неблагоприятные условия, деградировала умственно, но развилась физически. Ведь не будете же вы спорить, что во многих отношениях обезьяна совершеннее человека — сильнее, ловчее, согрета собственной шерстью? Слыхали ль вы, чтобы в животном мире существо сильное и ловкое превращалось в более слабое и неловкое? Вы: Но человек не силой берет, а умом, его главная мощь в коллективе, обществе. Затем вы объясняете, что человек завоевал мир не столько зубами и когтями, сколько орудиями труда. Вы даже можете процитировать Дарвина: «Мы не знаем, произошел ли человек от какого-либо вида обезьян небольших размеров вроде шимпанзе или от такого мощного, как горилла; мы поэтому и не можем сказать, стал ли человек больше и сильнее или, наоборот, меньше и слабее своих предков… Животное, обладающее большим ростом, силой и свирепостью и способное, подобно горилле, защищаться от всех врагов, по всей вероятности, не сделалось бы общественным… Поэтому для человека было бы бесконечно выгоднее произойти от какого-нибудь сравнительно слабого существа». Увлекшись, вы вообще начнете отрицать слишком большую роль физического строения человека в его успехах: «За много тысячелетий, в течение которых каменная цивилизация стала машинной, паровой, металлургической, мы почти совершенно не изменились физически». И тут вас ловят на слове. Он: Так, так, сударь, — значит, вы утверждаете, что в какой-то момент обычные законы, управляющие животным миром, отходят у нашего предка на задний план, а вперед выдвигаются новые законы, отсутствующие в развитой форме у зверей… Но тут возникает противоречие: вы определяете, от кого и как человек произошел, пользуясь данными биологии, анатомии, и в то же время признаете, что эти данные с незапамятных времен решающей роли в развитии человека не играли! Вы протестуете против такой диалектики, но вас спрашивают: — Существует ли коренное различие между умственными способностями человека и высших млекопитающих, в том числе и обезьян? Кого разделяет большая пропасть — червя и обезьяну или обезьяну и человека? Вы, конечно, говорите, что в некоторых отношениях первое различие больше, в некоторых — второе, но вынуждены будете признать, что человек сделал гигантский умственный скачок: позади осталась зияющая пропасть, и все животные — на той стороне. Шимпанзе, правда, грустно сидит на самом краю обрыва, а черви радостно копошатся в отдалении. Вопросы в самом деле трудные! Такие крупнейшие естествоиспытатели, как, например, Бюффон (1707–1788), переоценивали ширину этой пропасти и категорически отрицали на этом основании обезьяньих предков человека. Дарвин же, пожалуй, был склонен свести пропасть к узкой и вполне преодолимой щели. «Моя цель, — пишет он, — показать, что в умственных способностях между человеком и высшими млекопитающими не существует коренного различия». Дарвин стремится найти как можно больше умного, разумного в повадке животных, он твердо уверен: «Наши высокие способности развились постепенно. Но можно ясно доказать, что коренного различия в этом отношении (между человеком и животными) не существует. Мы должны также согласиться с тем, что различие в умственных способностях между одной из низших рыб, например миногой или ланцетником, и одной из высших обезьян гораздо значительнее, чем между обезьяной и человеком. Это громадное различие сглаживается бесчисленными переходными ступенями». Дарвин, конечно, понимает, как много он тут не знает: не знает, например, «каким образом впервые развились умственные способности у низших организмов», по каким законам наследуются признаки… А нам спустя сто лет в общем ничуть не легче, чем Дарвину, хотя знаем больше и большим владеем. Если Дарвин склонен был недооценить «пропасть», то мы за последнее время так увлеклись «качественным скачком», разницей между нами и предками — словом, так возгордились, что выкопали целое «ущелье». Именно в этот момент на сцене появляется главный довод против (или в дополнение) дарвинизма, который и поныне весьма употребителен. Он: Если даже принять схему — от обезьяны к человеку, то остается тайна, великая тайна: каким образом древняя обезьяна (пусть умная, хитрая, но все же обезьяна — животное без речи и орудий труда) перемахнула через пропасть, черную зияющую пропасть, о которой вы только что говорили? Какие неведомые силы подхватили ее в этом прыжке и перенесли на человеческую сторону? Почему эти силы не действуют сейчас и не помогут шимпанзе и гориллам очеловечиться? Если б древняя обезьяна «была человеком», она бы легко придумала, как осуществить такой космический прыжок. Но она ведь не была человеком и все же, по-вашему, прыгнула! Между нами, сударь, та разница, что я вижу чудо и говорю о нем, а вы тоже его видите, но стремитесь не заметить… Все тут не просто. Дарвин в мистическое чудо, создавшее человека, не верит, — но в одном письме признается: «Никак не могу взирать на эту чудесную Вселенную и особенно на природу человека и довольствоваться заключением, что все это — результат неразумной силы». Однако, когда Альфред Уоллес, одновременно с Дарвином опубликовавший сходную теорию эволюции, не выдержал и спасовал перед «тайной», то Дарвин написал ему: «Как Вы ожидали, я резко расхожусь с Вами. Я не могу видеть никакой необходимости призывать какую-то дополнительную непосредственную причину, касающуюся человека». Вопрос о «тайне» существует и теперь. Есть подозрение, что он будет существовать и через 50 лет. Очень распространенный тип современного западного антрополога — это ученый, который признает и обезьяну и обезьянолюдей, но требует признания «тайны» в форме чего-то «высшего». Вы готовы признать «тайну» (в том смысле, что еще не все открыто). Вы говорите, что новые находки ископаемых людей и обезьянолюдей — питекантропа, синантропа, австралопитека, зинджантропа, чадантропа… Но тут выясняется, что ваш собеседник и аудитория недоумевают и полагают, что произносятся какие-то заклинания: вы ведь нарушили правило игры — никакие ископаемые «антропы» и «питеки» им неизвестны. Он: Вам было бы, конечно, очень важно найти обезьянолюдей, переходные формы между подозрительным предком и великим потомком. Но не кажется ли нашему уважаемому приверженцу обезьяньей династии, который, конечно, мнит себя передовым и просвещенным, что он пытается вернуться к наивным сказкам о людях-животных, сатирах, кентаврах и тому подобных, в которые наш просвещенный век не поверит! (Смех, аплодисменты.) Вы соображаете (прежде это как-то не приходило вам в голову), что Дарвин предложил свою теорию происхождения человека за несколько десятилетий до того, как в Азии, Африке и Европе были сделаны великие находки ископаемых обезьянолюдей… «Да, но во времена Дарвина кое-что было в этом отношении уже известно! Господа, вы напрасно смеетесь и аплодируете моему противнику: ведь вы обязаны знать об ископаемой человекообразной обезьяне — дриопитеке». Он: Ну и что? Были в древности человекообразные обезьяны, которые вымерли, а были обезьяны, которые не вымерли. Вот и все. Вы: В середине XIX столетия сделано несколько находок ископаемых костей так называемого неандертальского человека, отличающегося от нас с вами. Он: Отличия слишком незначительные, чтобы говорить о существовании какого-то другого, более примитивного человеческого типа. В конце концов разницу можно объяснить болезнью древнего человека, деформацией его костей под давлением земных слоев. Я не спорю, эти ископаемые люди — важная находка, но к обезьяньему вопросу они прямого отношения не имеют. Кости, так же как и многочисленные пещеры с остатками первобытных костров и каменных орудий, доказывают только одно: человек жил и в глубокой древности. Но при чем тут обезьяна? Я даже нахожу тут довод против обезьяны, и этот довод вам знаком: если человечество имеет столь почтенный возраст и в течение этого времени физически не изменилось (или почти не изменилось), тогда как его цивилизация здорово развилась, то, может быть, человек физически вообще никогда не менялся, не меняется и не переменится?! К тому же надо еще доказать, что Земля существует достаточно долго, чтобы у человека было время перемениться. Разумеется, мы, просвещенные люди, не согласимся с ирландским епископом Ушером, вычислившим, что бог создал Землю 4 октября 4004 года до рождения Христова. Но мы с вниманием отнесемся к опыту Бюффона, раскалившего докрасна большой шар, с тем чтобы заметить, сколько времени он будет остывать, и вычислить, сколько времени будет остывать больший шар — Земля. Если помните, у Бюффона получался возраст Земли всего около 75 тысяч лет… Да, знаю, вы сейчас будете говорить о последних работах геологов, исчисляющих возраст планеты миллионами, даже десятками миллионов лет, но неизвестно, достаточен ли даже такой срок для превращения одного вида в другой. Ваше положение ужасно. Вы знаете про вычисления XX столетия, доказывающие, что Земля «началась» несколько миллиардов лет назад. Знаете, но обязаны молчать… На этом дискуссия кончается. Слушатели расходятся по домам, и, кроме нескольких крамольников и сумасшедших, все потешаются над тем, как господин профессор загнал в пот господина обезьянщика, который все обещал, что в будущем наука найдет аргументы в его пользу. — А что нам будущее? Мы требуем доказательств сегодня. Мы не убеждены, а это значит, что нас плохо убеждали… Весь этот диспут автор затеял ради того, чтобы доказать две истины, разумеется, требовавшие тщательного обоснования: 1. Все очень сложно. 2. Дарвин — великий человек. В частности, потому великий, что никогда не забывал, как все сложно. Действительно, всю жизнь ученый стремился не обойти вниманием ни одного возражения. При чтении его книг создается впечатление, будто он наслаждается самыми яростными и даже идиотскими доводами против Дарвина, потому что они помогают ему найти новые аргументы в защиту этого самого Дарвина. Для него очень характерен, например, следующий эпизод. «В «Происхождении человека» приводится рассказ из Брема про обезьяну, которая охотно вскармливала котят: «Один из котят — приемышей вышеназванной любвеобильной обезьяны — оцарапал ее однажды. Она, очевидно, обладала большой смышленостью, потому что с весьма удивленным видом осмотрела сейчас же лапы котенка и, не долго думая, откусила ему когти». К этому месту Дарвин делает характерное для него примечание: «Один критик без всякого основания, с целью дискредитировать мое сочинение, оспаривает возможность описанного Бремом случая. Я поэтому сделал опыт и убедился, что действительно могу схватить зубами острые коготки маленького пятинедельного котенка». С таким же вниманием и интересом Дарвин относился и к мальтузианству и к возражениям религиозного характера. Много пишут об осторожности ученого, который должен был остерегаться религиозных фанатиков. Конечно, эти опасения имели почву, но они далеко не исчерпывают суть дела. Отношение Дарвина к религии — прекрасный пример того, как ученый стремился прийти к истине, не минуя, а идя навстречу любому возражению, становясь при случае на позицию противника, чтобы примерить его доспехи. Вот, например, как начинается раздел о вере в бога и религии в книге «Происхождение человека»: «Не существует доказательств, что человек был изначально одарен облагораживающей верой в существование всемогущего бога. Наоборот, имеются исчерпывающие доказательства, заимствованные не у поверхностных путешественников-наблюдателей, а у людей, живших долгое время между дикарями, что многие из существовавших и существующих до сих пор рас не имеют понятия об одном или о многих богах и не имеют даже в своем языке слов для выражения такого понятия. Этот вопрос не имеет, конечно, ничего общего с великим вопросом, существует ли вообще творец и управитель Вселенной, — вопрос, на который отвечали утвердительно некоторые величайшие из когда-либо живших умов». Как видим, вслед за явно еретическим соображением против «врожденной веры» следует как будто смягчающая оговорка: Дарвин-де не берется решать вопрос о существовании бога вообще. Но, кроме «смягчения», здесь есть и характерное дарвиновское стремление к объективности: для решения своих задач ему, Дарвину, бог не понадобился, но ученый не берется на этом основании решать все вопросы такого рода. Дарвин, впрочем, не скрывает, что произошло с его собственной верой. Сначала она была: «Помню, как в самом начале моей школьной жизни мне приходилось торопиться, чтобы не опоздать в класс, и так как я прекрасно бегал, то обыкновенно успевал вовремя. Когда же мне казалось, что я все-таки опаздываю, я усердно молил бога о помощи, и вспоминаю, что приписывал успех не скорости моего бега, а молитве, и удивлялся неизменно оказываемой мне помощи свыше». Затем Кембридж: «Отец предложил мне готовиться в пасторы. Он совершенно справедливо приходил в негодование при одной мысли, что я сделаюсь праздным спортсменом, а в то время это казалось вполне возможным. Я попросил дать мне время на размышление, потому что я колебался признать за несомненную истину все догматы англиканской церкви, — в общем же я не прочь был бы сделаться сельским пастором. Я принялся за чтение богословских книг, а так как я в то время не сомневался в буквальном смысле каждого слова библии, то вскоре убедил себя, что наше исповедание должно быть принято целиком и полностью. Когда я подумаю, как свирепо нападали на меня сторонники церкви, просто смешно вспомнить, что я сам когда-то собирался стать пастором. Собственно говоря, я и не отказывался от этой мысли, она просто умерла естественной смертью, когда после отъезда из Кембриджа я отправился в путешествие на «Бигле» в качестве натуралиста. Если верить френологам, то я вполне подхожу для роли пастора. Несколько лет тому назад секретари какого-то немецкого психологического общества просили меня прислать свою фотографию. Спустя некоторое время я получил протокол заседания, на котором публично обсуждались формы моей головы, и один из выступавших ораторов заявил, что шишка благоговения развита у меня так, что ее хватило бы на добрый десяток пасторов». Дарвин прошел искус религии и поэтому задумывался над многими вопросами, которые религия ставила, но не решала, он искренне взвешивал «за» и «против», был беспристрастен и беспристрастно пришел к выводу «против». Именно это обстоятельство он, очевидно, имел в виду, когда в 1873 году отвечал на одну из анкет. Вопрос: Оказали ли привитые в юности религиозные верования какое-либо сдерживающее влияние на свободу ваших исследований? Ответ: Нет. Когда Дарвин приводит доказательство за доказательством, группы доказательств, системы доказательств в пользу существования животных предков человека, чувствуется, что он внутренне полемизирует с людьми, мыслящими сейчас, как он сам мыслил прежде. Но в любой полемике ученый настолько честен, что ему неприятно, когда нельзя уже ни в чем упрекнуть самого себя. В готовую рукопись «Автобиографии» Дарвин вписал незадолго до смерти: «Что касается меня самого, то я думаю, что поступил правильно, неуклонно занимаясь наукой и посвятив ей всю жизнь. Я не совершил какого-либо серьезного греха и не испытываю поэтому никаких угрызений совести, но я очень и очень часто жалел о том, что не оказал больше непосредственного добра моим близким». В этих строках, как всегда, Дарвин не разделяет мораль и науку. Ученый обосновал обезьяньих предков человека своей теорией, но одним фактом существования такой личности, как Дарвин, можно было доказать, что человечество все же далеко ушло от обезьяны. «Человек происходит от Дарвина…» Подобно доброму волшебнику, стоял старый английский ученый у врат громадного таинственного царства—древнейшей, начальной человеческой истории. Прежде врата были невидимы, а царство неведомо. Да и теперь даже волшебнику вход туда заказан. Он там, внутри, не бывал, ни с одним обитателем не встречался, но о многом, очень многом догадывался (волшебник все-таки) и постепенно вызывал у смелых неистовое желание проникнуть за ограду, узнать, кто и что там. Мудрец и сам мечтал, хоть и не очень надеялся, взглянуть на «последнюю обезьяну и первого человека». Но волшебные ворота приоткрылись лишь через 10 лет после него. ГЛАВА ВТОРАЯПИТЕКАНТРОП I ВЕЛИКИЙ Как известно, Генрих Шлиман открыл Трою просто: взял Илиаду в одну руку, саквояж с деньгами в другую и, точно следуя указаниям Гомера покопал немного и нашел. Ученый мир был обижен в этом случае нарушением справедливости, потому что великие открытия так не делаются. Они должны приходить к достойнейшим после многолетних неудач, сомнений, надежд, отступлений, наступлений и озарений. «Гений — это талант плюс терпение». «Только длительным трудом, дети мои, я достиг…» «Торопись медленно…» «Я сделал все, что мог, пусть другие сделают больше…» «Наука не терпит нахальства…» «Пусть прекраснейшие девушки достанутся благороднейшим юношам…» И вдруг оказалось, что наука своенравна и ветрена и что прекраснейшие девушки иногда склонны делать невыгодные партии. Эта ситуация и определяла жизненный путь молодого голландца Евгения Дюбуа (родился в 1858 году, делал первые шаги, когда вышло «Происхождение видов», заканчивал школу и начал интересоваться медициной, когда раскопали Трою). Евгений Дюбуа рассуждал примерно так: 1. Дарвин утверждает: человек произошел от обезьяны и, значит, были некогда промежуточные существа, обезьянолюди. Противники же Дарвина требуют этих обезьянолюдей предъявить. 2. Если обезьянолюди были, необходимо их найти. 3. Искать надо в Юго-Восточной Азии или Африке, потому что в этих местах водятся человекообразные обезьяны и некогда существовали древнейшие человеческие цивилизации. 4. Он, Евгений Дюбуа, хороший врач. 5. Ему, Евгению Дюбуа, следует поэтому отправиться в Юго-Восточную Азию или Африку и найти там обезьяночеловека. Еще в 1866 году Эрнст Геккель обратился к искомому предку по имени «Питекантропус алалус» (что означало «обезьяночеловек, не обладающий речью»). После столь вежливого обращения искомое лицо, конечно, должно было отозваться. Сходство Шлимана и Дюбуа очевидно: два чудака и два объекта, которые эти чудаки отправляются искать, в то время как всем известно, что открытия никогда так не делаются. Правда, Шлимана от его Трои отделяло всего каких-нибудь 30–40 веков, а Дюбуа и представить не мог, сколько тысячелетии или миллионолетий до его «троянца». (Впрочем, последнее обстоятельство даже облегчало поиски. Если бы знал, мог бы испугаться и упустить из виду, как легко делаются великие открытия.) Дальше все совершенно просто. Тридцатилетний врач с хорошим аттестатом без труда находит место в Голландской Индии (то есть Индонезии). Полтора месяца плавания до Батавии (будущей Джакарты) и вот уже экватор, и корни деревьев, пьющих морскую воду, и орангутаны, и отравленные стрелы, выдуваемые из тонких трубочек, и бабочки невозможной величины, и сплетенные из камней храмы. Большая часть дела сделана; остались пустяки — совершить великое открытие и отыскать питекантропуса, или, фамильярно выражаясь, питекантропа, которого так заждалась наука. Как это устроить? А вот как: нужно найти место, где он находится, что совсем несложно. За тысячелетия питекантропа, понятно, занесло землей, и копать наудачу дело безнадежное. Не стоило искать тропического предка (в отличие от полярного) и в пещерах, где змеи и прочая нечисть издавна находили прохладу и уединение. Зато на речном обрыве, где все слои выступают наружу, вот там он и лежит. Сначала Дюбуа решил, что на малонаселенной, заросшей джунглями Суматре больше шансов найти питекантропа. Как только разлившиеся мутные реки вернулись в берега, он разыскал подходящий обрыв и тут же выкопал два довольно древних (судя по глубине залегания) черепа. Но все это были вполне человеческие черепа, а врач искал обезьяночеловеческие. Вернувшись в Батавию, Дюбуа, видимо, понял, что, предпочтя таинственную Суматру густонаселенной и распаханной Яве, он нарушил принцип легкости великих находок: ведь делать их надо с минимальными усилиями. Как только прошли новые дожди, доктор отправился ездить и бродить по Яве и у реки Кедунг Брубус, копнув, добыл фрагмент нижней челюсти: во-первых, из очень глубокого слоя, а во-вторых, вроде бы человеческую, но с некоторыми странными отличиями (ямка для так называемой двубрюшной мышцы была в 2–3 раза больше, чем у людей и обезьян). Записав, зарисовав и аккуратно запаковав челюсть, Дюбуа вернулся к своим пациентам, а в следующем сезоне в 40 километрах к западу от челюсти стал подкапываться под берег речушки Соло близ деревушки (по-местному — кампонга) Триниль. Быстро разыскал он в речном обрыве тот самый древний слой, в котором была найдена прошлогодняя челюсть, и, поковыряв немного… извлек черепную крышку.  (Вот эта самая крышка.) Исторических сведений о том восклицании, какое издал в тот момент Евгении Дюбуа, не сохранилось. А может быть, восклицаний и не было, так как рассудительный голландец знал, что открытие неминуемо. По крышке череп приблизительно восстанавливался: это был маленький человеческий череп — 900 кубических сантиметров (у нас с вами 1300–1400). И в то же время это был гигантский обезьяний череп (у гориллы 500 кубических сантиметров). Обезьяньи черты были сильны: над глазами валик, которого мы с вами практически лишены, нижняя часть головы шире верхней, у нас же наоборот. Но все-таки голова и мозг почти в два раза больше, чем у самых умных обезьян! Кто знает, какой прихотью природы мертвый череп был расколот и рассеян так, что других его частей поблизости не оказалось, но остались на месте крупные зубы, сотни тысяч лет назад жадно впивавшиеся в стебли растений и мясо тех тварей, чьи кости улеглись кругом, по соседству (твари, как потом выяснилось, были очень древние — стегодон, лептобос и другие, — всего 27 млекопитающих, и ни одного вида, сохранившегося до наших дней!). Дюбуа перекопал в конце сухого сезона 1891 года немало древнего вулканического песка, речного ила и морских отложений. (Может быть, грохот вулкана или рев воды и был последним жутким впечатлением мозга, что работал когда-то под найденной черепной крышкой?) Затем Дюбуа упаковал череп, вернулся в Батавию, с истинно северным хладнокровием переждал новый приступ тропических ливней, опять поехал на то же место и все с тем же спокойствием в 15 метрах от прошлогодней находки извлек полуметровую бедренную кость, не менее знаменитую, чем черепная крышка.  Бедро питекантропа в "Тринильском музее" на Яве. Доктор готов был поручиться, что это бедро двигалось, повинуясь приказаниям того самого, прошлогоднего черепа. Дюбуа не пришел к точному решению, какие силы отбросили бедро на 15 метров от головы, но зато определил, что оно изуродовано болезнью, отчего обладатель его, без сомнения, когда-то рычал, ревел или ругался от боли. Потом Дюбуа отправился в Европу, оставив своих помощников копать на берегах Соло, и несколько зим в Лейден прибывали ящики, набитые породой, костями мелких и крупных зверей, остатками древних растений и прочим. Но ничего подобного первым находкам не появилось. Сначала быстрое великое открытие. Потом годы нужных, но малоурожайных поисков. Меж тем счастливый баловень судьбы и науки разъезжал по Европе, и главной частью его багажа был чемодан с яванским черепом, бедром и зубами. Нравы в те идиллические времена были простые, и только много позже все эти предметы как супердрагоценности упрячут в сейф с двойными стенками. Однажды Евгений Дюбуа сидел с другом в парижском ресторане. — Я называю его питекантропус эректус, то есть обезьяночеловек прямоходящий. Загадка: «Прямоходящий». Даже чересчур прямоходящий. Нас учили, что сначала обезьяна на четвереньках ходила, потом «на полусогнутых» и, чем ближе к нам, все распрямлялась и распрямлялась. Но вот этот самый питекантроп ходил, может быть, прямее, чем некоторые куда более совершенные, головастые, близкие к нам обезьянолюди. Слишком уж человеческое бедро для такой малой головы! Потом Дюбуа и его собеседник, слегка подогретые ужином, прогуливаются по парижским улицам среди снующих туда-сюда завернутых в ткани и шкуры людей с черепом 1300–1400 кубических сантиметров и бедрами, более совершенными, чем у самого питекантропа. А кстати, где он? Дюбуа вдруг всплескивает руками и бросается обратно в ресторан: к счастью, ни полиция, ни посетители не заинтересовались содержимым забытого чемодана. Так был открыт и чуть не потерян один из самых известных людей. Но можно ли присвоить человеческое звание только за то, что соискатель в полтора раза мозговитое, чем шимпанзе, и довольно прямо ходит? Что такое вообще человек? Если считать 1891 год началом второй жизни питекантропа, то можно сказать, что существо это пережило трудную, романтическую молодость и постепенно обросло характером под грохот мировых войн и великих революций. Конечно, питекантропу нелегко тягаться с самыми знаменитыми из людей, каковыми (согласно статистическим данным 1900 года) были Наполеон и Иисус Христос. Но все же на закате XIX столетия он стал чрезвычайно моден. Лейденский, Кембриджский и Берлинский конгрессы обсуждали его. Кроме того, его представили ученым собраниям Льежа, Парижа, Лондона, Дублина, Эдинбурга и Иены. В газетах ему уделялось, пожалуй, не меньше места, чем таким событиям, сопутствовавшим его рождению, как последний кабинет Гладстона в Англии, воцарение императора Николая II в России, изобретение кино во Франции и тому подобное. В согласии, с демократическим духом XIX столетия судьба питекантропа решалась голосованием. Второму коренному зубу специалисты выразили недоверие: ни один не подал голоса за принадлежность его человеку, двое высказались за обезьяну, пятеро утверждали, что это зуб «промежуточного существа» (обезьяночеловека). Зато коренной третий зуб вызвал ожесточенную борьбу партий. Человек — 4 голоса. Обезьяна — 6 голосов. Промежуточное существо — 8 голосов. Еще лучше баллотировалась черепная крышка: 6 — за человека, 6 — за обезьяну и 8 — за промежуточное существо… И наконец, бедренная кость добилась почти полного признания. 13 депутатов ученого сословия нашли ее человеческой, 6 высказались за промежуточное существо, и лишь 1 наложил вето: обезьяна! Одним был известнейший и влиятельнейший медик Рудольф Вирхов. Это был великий ученый, один из создателей современной медицины. Еще задолго до находок Дюбуа он, между прочим, призывал искать ископаемых предков в тропических странах. Вирхов писал даже, что «одно открытие может совершенно изменить аспект проблемы» (проблемы происхождения человека), но при всем том в обезьяньих предков человека не верил и сделал немало, чтобы не допустить их научного признания. Лет за двадцать до того Вирхов доказывал, что неандертальский человек не древний наш предок, а современный «патологический тип». Теперь он соглашался, что на Яве найдены действительно древние, но отнюдь не человеческие кости. «Это гигантский гиббон». Прямая походка ничего не доказывает, утверждал Вирхов: просто гиббон ходил по земле, тянулся за ветвями и приучился к двуногости. Две ноги—это еще не все (и у птицы две ноги!). К тому же никакое животное не сможет двигаться и существовать с костью, столь изъеденной болезнью, как бедро, найденное Дюбуа. Но Вирхову говорили и писали о черепе, умном черепе питекантропа. Вирхов отвечал, что, пролежав сотни веков под большим давлением верхних слоев, череп гиббона мог перемениться в «лучшую сторону». Вдобавок Вирхов смущал своих противников регулярным напоминанием, что ни лука, ни топора, ни хотя бы самого примитивного каменного орудия Дюбуа вместе с питекантропом не нашел, в то время как даже самые отсталые племена Суматры, Борнео и Австралии и те пользуются деревянными и каменными орудиями. — Хотя бы одно ручное рубило, господа дарвинисты, одно орудие, о котором так много пишут археологи! Орудий не было. Ох какими сложными путями движется наука к истине! Во всех учебниках можно прочитать, что Вирхова в конце концов опровергли, а питекантроп торжествовал: болезненные наросты на бедре нашли и у медведей — оказывается, можно с такими костями и жить и охотиться. И тем не менее размышления Вирхова не лишены смысла. Они даже наводят на любопытные идеи, совсем, правда, иные. чем у самого Вирхова. Но об этом позже. Вторая молодость питекантропа проходила под аккомпанемент всяческих вопросов и ответов. Вопрос: Где орудия труда? Ответ: Не найдено — не значит, что не было. Если обезьяночеловек пользовался палками, то они ведь давно сгнили. Вопрос: Кто докажет, что мы происходим именно от этого джентльмена? (Впрочем, может быть, и леди: пол существа не ясен). Ответ: Но ведь улики налицо: уже не обезьяна, но еще не человек. Задавалось и много других, куда менее умных вопросов. Несколько ученых-англичан применили, например, против питекантропа то самое оружие, которым Вирхов боролся с неандертальцем. «Пусть господин профессор (Дюбуа за его открытия сделали профессором минералогии Амстердамского университета) докажет, что древний обезьяночеловек не является одной из разновидностей современного кретина». У Дюбуа портились нервы, он становился замкнутым и подозрительным. Казалось, пришла расплата за слишком легкий успех. Он скрылся от мира в родном городке Гарлеме, запер питекантропа в кладовой местного музея и отказался кого бы то ни было принимать. Говорили, по ночам он часто выходил из дому, чтобы подстеречь тех, кто покусится на драгоценные кости. К великой досаде своих коллег, Дюбуа не публиковал никаких сведений, описаний, рисунков, по которым можно было бы изучать «арестованного» питекантропа. Тогда немецкая Академия наук и городские власти Мюнхена снарядили мощную экспедицию за вторым питекантропом во главе с Эмилем Зеленком. (После внезапной смерти Зеленка экспедицию возглавила его вдова Маргарита Зеленк.) Прибыв на Яву, немцы энергично взялись за дело. До наших дней по берегу реки Соло рассыпано множество разбитых пивных бутылок, очерчивающих район раскопок. Дюбуа, серьезно обеспокоенный тем, что новые находки будут опубликованы по всем правилам и получат признание, решил напечатать довольно лаконичную статью об ископаемой фауне, обнаруженной в одном слое с его питекантропом. Меж тем немецкая экспедиция за два сезона добыла множество ископаемых зверей (в том числе одну неизвестную науке древнюю антилопу, которую в честь строптивого голландца нарекли Дюбуазией). Однажды нашли многообещающий зуб (который по внимательном рассмотрении оказался вполне современным человеческим зубом), но так и не встретили питекантропа II. Хотя для науки было в общем сделано немало, но в глазах публики возвращение без главного трофея было неудачей. Наука и фортуна продолжали проявлять ветреность и безрассудство. Впрочем, одним из важных результатов берлинско-мюнхенской экспедиции было то обстоятельство, что жители Триниля и других кампонгов по берегу Соло узнали, что европейцам нужны старые кости, и с тех пор началась промысловая добыча — благо, из высокого берега реки после каждого ливня вылезают окаменевшие черепа, рога, ребра. 20 лет этот промысел не приносил покупателям ничего сенсационного, пока в декабре 1926 года голландскому антропологу доктору Хеберлину не показалось, будто он приобрел голову нового питекантропа. К несчастью для доктора, сообщение о его открытии попало в газеты прежде, чем он сам убедился, как обманчиво выглядит порою обломок слонового черепа. В течение почти всего этого двадцатилетия Евгений Дюбуа оставался в затворничестве и только перевел питекантропа из Гарлема в более надежный сейф Лейденского музея. За это время Отто Шетензак — гейдельбергский ученый, прославившийся в узких кругах своей сомнительной теорией об австралийском происхождении человека, — стал широко знаменит из-за открытия не вызывавшей никаких сомнений, хорошо сохранившейся обезьяночеловеческой гейдельбергской челюсти.  Гейдельбергская челюсть Челюсть многое объясняла. Тогда же в Англии была сделана сенсационная находка пильтдаунского человека, или эоантропа (человек зари), обладавшего таким высокоразвитым, современным, в сущности, черепом и такой неразвитой, обезьяньей, в сущности, челюстью, что при их появлении все запуталось. Открытия повели к дискуссиям, в которых, впрочем, ни Дюбуа, ни его питекантроп персонального участия не принимали. ГЛАВА ТРЕТЬЯЗУБЫ, ПЕЩЕРЫ, УЧЕНЫЕ Неисповедимы пути науки, и нескольким суждено было начаться в китайских аптеках. В Пекине и Гонконге, Маниле и Сингапуре, на Яве и в Сан-Франциско — везде, где существовало такое заведение, как китайская аптека, — испокон веков был богатый выбор зубов различных животных. Иногда зубы продавались оптом и вместе с челюстями. Вежливые аптекари обычно не отвечали на вопросы, откуда выкопано то или иное «лекарство», но когда белый посетитель наивно спрашивал: «В чем заключается чудодейственная сила ископаемых зубов?», он получал четкий ответ: «Эти зубы никогда не причиняют вреда». (Известный антрополог Брум заметил по этому поводу, что ни один британский аптекарь не смог бы сказать того же о своих лекарствах.) Все началось с китайских аптек, в которых немецкий натуралист доктор Хаберер закупал уйму разных зубов, чтобы отправить их в родной Мюнхен. В 1903 году знаменитый мюнхенский профессор Макс Шлоссер изучил присланные зубы и описал множество древних антилоп, гиен, тигров, слонов, бегемотов, которым эти зубы некогда тоже приносили пользу. Но самым интересным был один верхний коренной зуб, очень стертый. Зуб человека от зуба обезьяны специалист отличает без труда: обезьяньи зубы крупнее и имеют более сложную структуру, наши же поменьше и попроще. Коренной зуб из коллекции Хаберера имел и человеческие и обезьяньи особенности, то есть мог быть зубом какого-то промежуточного существа. Хаберер сообщил, что приобрел зуб в одной из аптек Пекина, и резонно заметил, что вряд ли аптекарь получал «лекарства», залегавшие слишком далеко от города. Молодые антропологи-романтики часто вспоминали в те годы о пекинском зубе и мечтали о путешествиях за остальными обломками неведомого существа. Зуб в конце концов оказался более таинственным, чем предполагали: позже, когда в Китае сделали замечательные находки, открыли кого угодно, но только не существо с такими зубами, как этот… Вскоре после первой мировой войны романтический зуб, к сожалению, где-то затерялся, но свое дело сделал: положил начало знаменитым раскопкам. Гуннар Андерсон, шведский советник пекинского правительства по горным делам, попутно занимался археологией и позже сделался директором коллекций Дальнего Востока в Стокгольме. Весной 1918 года Андерсон заинтересовался мюнхенским зубом и нашел близ Пекина в пещере Чжоу-Коу-Дянь много костей ископаемых животных. Кроме того, были найдены отщепы кварца, хотя месторождения кварца по соседству не было. Андерсон предположил, что где-то поблизости жил ископаемый человек: кости — остатки его еды, кварц — обломки его орудий труда. Швецию, несомненно, следует считать одной из победительниц в первой мировой войне, ибо она принадлежала к числу немногих стран, в ней не участвовавших. Поэтому в пору европейских инфляции, девальваций и депрессий, когда не до раскопок, Швеция была к ним вполне расположена. В те годы знаменитый спичечный король Ивар Крейгер очень хотел, между прочим, приобрести для себя и Швеции нечто невозможное. Невозможно было купить ископаемого человека, и поэтому Крейгер финансировал экспедицию, во главе которой стал крупный специалист доктор Зданский. От экспедиции требовалось привезти в Швецию ископаемого человека в любом виде и количестве. Зданский прибыл в Китай, покопал немного в пещере Чжоу-Коу-Дянь, нашел еще немало костей животных, а также замечательный зуб, такой зуб, о котором могли только мечтать антропологи-романтики. Но шведский профессор был суров, не поддался страстям и отправился вместе с багажом обратно за пять морей в родную Упсалу, чтобы спокойно рассмотреть находки. Разбирая ящики, Зданский обнаружил еще один зуб — явно человеческий и в то же время слишком крупный и сложный, чтобы быть человеческим. Я думаю, Зданский хотел открыть нового обезьяночеловека не меньше, чем его коллега, принявший слона за питекантропа, и если истина находится между этими двумя типами исследователей, то все же ближе к Зданскому (а впрочем, может, и не так?). Зданский так хотел обойтись без спекуляций, был так добросовестен, так осторожен, что решительно отказался сделать великое открытие, которое просто шло ему в руки. Может быть, судьба Евгения Дюбуа вызывала страх, а золото Ивара Крейгера — неприязнь? Так или иначе, но доктор Зданский опубликовал фотографию и описание двух зубов со следующим примечанием, достойным средневекового постника и самоистязателя: «Мое открытие представляет интерес, но не имеет эпохального значения…» Между тем, пока Зданский изучал зубы в Швеции, в Пекин прибыл энергичный канадец Дэвидсон Блэк, принявший должность профессора анатомии Пекинского медицинского колледжа в основном из-за страсти к раскопкам. В костях он знал толк, потому что прежде изучал вместе со знаменитым антропологом Эллиотом Смитом так называемого пильтдаунского человека, о котором еще речь впереди. Рассмотрев зубы, опубликованные Зданским, Блэк заволновался и тут же начал действовать. Показав фотографии Зданского представителям фонда Рокфеллера, ученый сумел получить средства на экспедицию и 16 апреля 1927 года приступил к раскопкам.  Табличка у входа в пещеру Чжоу-Коу-Дянь Первый поход за ископаемым человеком продолжался полгода, с апреля по октябрь. Выглядело это так: у входа в пещеру Чжоу-Коу-Дянь работали землекопы-китайцы. Работали парами — один копал, а другой просеивал породу сквозь решето. Как только на дне решета показывались кость или зуб, появлялись специалисты — молодой китайский антрополог Пэй Вэнь-чжун, швед Болен, французский аббат и антрополог Тейяр де Шарден и другие. Записав, сфотографировав, зарисовав и запаковав в ящики, кости отправляли в Пекин, где находился главный штаб раскопок и главнокомандующий Дэвидсон Блэк. За полгода вырыли и просеяли более 3 тысяч кубометров земли и буквально завалили пекинский минералогический институт сотнями ящиков с окаменелостями.  У входа в жилище синантропа Однако главных находок все не было. Казалось, ископаемый человек (как это было при раскопках Зеленка) вообще не желает появляться перед слишком хорошо оборудованной экспедицией. Конец первого сезона поисков назначили на 18 октября, но за 2 дня до срока, 16 октября, Болен положил в один из ящиков хорошо сохранившийся коренной зуб, в котором Блэк сразу увидел то, чего ждал: большой зуб, человеческий и в то же время настолько обезьяний, что можно было объявлять о замечательном открытии. Дэвидсон Блэк назвал открытое им существо длинно и благородно, не забыв ни места находки, ни своего предшественника: «синантроп пекинский Блэка и Зданского», то есть «китайский, пекинский древний человек Блэка и Зданского». Новый человек требовал дипломатического признания, и Блэк, воспользовавшись зимним перерывом в раскопках, заказал специальную медную шкатулку-медальон, привязал ее во избежание всяких случайностей к цепочке от своих часов, вложил внутрь медальона драгоценнейший зуб и объехал крупных специалистов Европы и Америки. Когда Блэк щелкал крышкой медальона и показывал находку, специалисты волновались, но еще не верили. Блэк же не сомневался, что в таком богатом «месторождении», как пещера Чжоу-Коу-Дянь, дело не ограничится мелочью — и, еще будут самородки. В следующие сезоны ископаемые зубы пошли косяком, затем появились обломки бедер и, наконец, фрагменты черепов. Черепа требовали громадных измерений и сравнений, а тут еще и еще подваливали кости. К концу сезона 1929 года вокруг Блэка громоздилось 1465 ящиков с окаменелостями и отщепами кварца, имевшими отношение к орудиям синантропа. Вдобавок появились обугленные кости и толстый слой золы, свидетельствовавшие о древнейшем из всех известных в мире костров. Блэк не успевал… После обеда он обычно запирался в институте и работал до утра следующего дня. Здоровье не позволяло вести такой режим, пекинский климат был ему противопоказан, но обо всем этом не то что говорить, думать было некогда. Утром 15 марта 1934 года секретарь, зайдя в кабинет Блэка, нашел его лежащим ниц на столе. Из мертвой руки осторожно вынули череп синантропа. Раскопки возглавил тогда немецкий антрополог Франц Вейденрейх, только что покинувший гитлеровскую Германию. Он работал в Чжоу-Коу-Дянь до самой второй мировой войны. Постепенно, с годами, открывалась громадная расщелина (перед войной глубина раскопок достигла 50 метров!). Подземная пещера состояла как бы из нескольких залов, защищавших синантропа от врагов и холода. (А холод был в его время покрепче нынешнего. Уже после войны проанализировали древнюю пыльцу из «слоя синантропа». Пыльца ели составила 4 процента общего количества, сосны — 33, березы — 28: преобладали деревья, ныне заполняющие куда более северные леса.) Вейденрейх и его коллеги, конечно, чувствовали приближение войны. С 1937 года им пришлось работать на территории, уже оккупированной японцами, но до поры до времени захватчики не препятствовали раскопкам. Пэй Вэнь-чжун и другие китайские ученые открыли и изучили при этом множество неизвестных в наши дни видов животных. Вейденрейх, не отвлекаясь, занимался только человеком. Из научных и журналистских отчетов перед нами, словно в калейдоскопе, предстают быстро сменяющиеся факты и образы: Вейденрейх и его ассистенты сопоставляют найденные кости. Их добыча — два или три черепа, более 150 зубов. Обнаружены останки уже 45 синантропов, хотя от некоторых, кроме зуба, ничего не сохранилось. Из глубины пещеры извлекаются колоритные памятники материальной и духовной культуры синантропской эпохи: черепа с дырами, пробитыми каменным оружием, чтобы извлечь мозг врага и, вероятно, пополнить его познаниями свою эрудицию. Здесь жили тысячелетия, может быть, десятки тысячелетий. Вся история современной цивилизации, от пирамид до атомного котла, помноженная на 5, 10, 20, — вот примерная длина эры синантропа. И за все время почти никаких изменений не произошло в этих пещерах, кроме бесконечной, однообразной смены сотен поколений. Не знаем только, откуда пришли и куда ушли из этого убежища древние обезьянолюди… Огонь, около которого грелись великие первобытные охотники (об их умении свидетельствуют кости тысяч гиен, мощных и сильных хищников)… Огонь, видимо, от пожара или молнии, как в книге «Борьба за огонь» Жоржа Рони. Пламя охраняли и поддерживали меняющиеся часовые, а он горел без перерыва месяцы, годы, может быть, столетия и даже тысячелетия. Какой фантаст сочинит костер, не гаснущий, скажем, от времен вавилонского царя Хаммурапи до наших дней… Вейденрейх озадачен. Он совещается с ассистентами, сравнивает две резко отличающиеся по физической структуре группы обитателей пещеры. Средний рост одной группы — 156 сантиметров, другой — 144. Два племени, два вида? Оказалось, два пола. Мужчины и женщины в те времена сильнее отличались друг от друга, чем теперь. (Еще больше так называемый половой диморфизм у крупных человекообразных обезьян.) Возможно, что цивилизация «уравнивает» два человеческих пола-Американская художница Люсиль Свэн восстанавливает по сохранившимся фрагментам облик синантропской дамы, которую почтительно величают мисс Нэлли. Наконец удается составить несколько полных черепов. Объем мозга от 915 до 1250 кубических сантиметров, в среднем немного больше, чем у питекантропов. Сходство синантропа и питекантропа несомненно. У первого «лучше» голова, зато питекантроп ходил не менее прямо. Вот где надо еще вспомнить Вирхова, а также извилистые пути науки: Вирхов был неправ, отрицая обезьяночеловека. И он был прав, подчеркивая, что одно прямохождение еще не слишком много доказывает… Совершая небольшие раскопки в так называемом верхнем гроте Чжоу-Коу-Дянь, антропологи однажды находят древнее погребение, в котором покоятся скелеты мужчины и двух женщин. Мужчина — человек современного физического типа с некоторыми примитивными чертами; одна из женщин «папуасского типа», а другая «эскимосского». Какая-то странная «романтическая» история, случившаяся примерно 10–20 тысяч лет назад. К синантропу она никакого отношения, конечно, не имеет. Синантроп во много раз древнее. Давно жил синантроп. Прохладный климат еще не дает точного ответа, как давно: было ведь несколько отступлений и наступлений ледника. Тогда прибегают к статистике и считают виды животных, сосуществовавших с синантропом. 50 процентов видов здравствуют и сейчас, 50 — вымерло. Отсюда делают вывод, что синантроп жил в период второго оледенения (так называемого миндельского оледенения), потому что в слоях первого, гюнцского, находят только 20 процентов ныне живущих тварей, зато в слоях последнего ледника (рисского) — 75. Если так, то Нэлли и ее современники прожили свои недолгие жизни примерно 400 тысяч лет назад. Впрочем, некоторые ученые все-таки подводят синантропа, «огнепоклонника с довольно большой головой», поближе к нам, в эпоху рисского оледенения (около 200 тысяч лет назад). Еще и еще факты… Вейденрейх сверхскрупулезно меряет, описывает кости, не жалея средств на создание самых лучших, громадных, многочисленных фотографий. Он будто предчувствует что-то, будто знает, что лишь на несколько лет, словно мираж, появился перед учеными этот мощный костяной ливень, чтобы затем исчезнуть в небытии. Одновременно с раскопками Вейденрейх готовит и печатает великолепные научные описания находок, затем продолжает это дело во время войны и дарит науке замечательную серию — целую синантропиану.   Череп пекинского синантропа. Реконструкция Вейденрейха. Чем больше писали и говорили о пекинском человеке, тем чаще поминали и яванского. Синантроп оказал братскую помощь своему «кровнику» — питекантропу, чья вторая жизнь столь долго протекала почти в полном одиночестве. Между тем на 43-м году нового существования в биографии питекантропа начались странные события. Весной 1932 года 74-летний Евгений Дюбуа разбирал в своей Лейденской лаборатории ящики, доставленные некогда с Явы обломки костей четвероногих современников питекантропа. И вдруг между делом в одном из ящиков обнаружились… четыре фрагмента бедренной кости обезьяночеловека! Оказалось, ящик прибыл еще в 1900 году, и ассистенты Дюбуа тогда же точно зафиксировали, где и что было выкопано. Все тот же речной обрыв на Яве! Три с лишним десятилетия спорили вокруг черепа, коренных зубов, бедра. Каждый кусочек питекантропа был величайшей драгоценностью. А про обломки, затерявшиеся в ящике, и не ведали. (В 1935-м таким же манером нашли еще фрагмент!) Необыкновенные приложения к открытию были сродни самой находке — причудливо легкой и простой — и вполне гармонировали со странностями первооткрывателя. Этот случай напоминает, пожалуй, только о замечательных открытиях, сделанных недавно в подвалах Каирского музея среди сложенных туда коллекций (в музее обнаружили кражу, устроили генеральную ревизию, и тут-то начались находки!). На том, казалось бы, поэтическая атмосфера вокруг питекантропа могла уж и рассеяться. Все больше специалистов признавало правоту лейденского медика и неопровержимые свидетельства синантропа: на Яве и в Китае обитали промежуточные существа, обезьянолюди. И тут, когда пришли признание и слава, тут 75-летний Евгений Дюбуа отрекся. Неожиданно в 1935 году он печатает статью, где отказывается от мысли, что нашел обезьяночеловека: как раз бедро, самая человеческая часть скелета, при тщательном изучении волокон и костей — остеонов оказалось таким же, как у гиббона, и совсем не таким, как у человека. Потрясенный Дюбуа решил, что покойный Вирхов был прав, что на Яве действительно откопан гигантский гиббон и что внешний вид бедра обманчив, зато внутреннее его строение выдает истину. Разные мысли приходят в голову по поводу такого необыкновенного поступка. Много ли наберется в истории стариков ученых, отрекающихся от своей главной находки, отрекающихся в момент наивысшего признания, отрекающихся публично-в печати, по своей инициативе. Разумеется, радость тех, кто не соглашался происходить от обезьян, была велика: «Вы слышали? Сам Дюбуа отрекся… Вот и мы никогда не верили, что от этой грязной, отвратительной яванской твари произошли Гомер, Рафаэль, Бетховен, Толстой!..» И так далее и тому подобное. Я не имею точных данных о психологической подоплеке этого поступка. Однако мнение, будто Дюбуа уступил церкви, религии, мне кажется несостоятельным. Никаких сведений о его колебаниях между дарвинизмом и библией нет. Преувеличенная, как у Зданского, осторожность, честность, из достоинства перешедшая в недостаток? Возможно, что было и это. Но для объяснения мало. Дюбуа, восставший против своего дитяти, не пощадил и чужих. Никакого родства между питекантропом и синантропом старик не признал, хотя оно было очевидно. Дюбуа повторял, что питекантроп не человек, а гиббон; синантроп же — человек, и даже больше человек, чем кажется Блэку, Вейденрейху и другим: просто-напросто это патологический неандерталец, и, следовательно, открытия в Чжоу-Коу-Дянь освещают время, удаленное не на сотни, а только на десятки тысячелетий. Можно подумать, что в Дюбуа переселилась тень Вирхова: сначала гиббон, по Вирхову, затем «патологический тип», все по тому же Вирхову. Но против Дюбуа в ту пору смыкают ряды его вчерашние союзники. Они настаивают. Они приводят аргументы. Советский антрополог Н. А. Синельников подробно анализирует все доводы Дюбуа-старого против Дюбуа-молодого… Синельников самостоятельно сравнивает кости питекантропа и человека. Сравнивает и доказывает, что резкие различая во внутреннем строении бедра, которые так напугали голландца, — различия мнимые, что по микроструктуре кости питекантропа как раз ближе к нашим костям, чем к обезьяньим. Дюбуа читает работу Синельникова и другие опровержения. Вроде бы соглашается. Во всяком случае, в одной из статей, вышедших перед его восьмидесятилетием, он снова склонен отменить гиббона и признать в своем протеже обезьяночеловека. Но в 1940 году появляется последняя его статья, и снова питекантроп исключается из человеческой родословной… В этих колебаниях, мне кажется, вся суть. Дюбуа все-таки не был антропологом с широким кругом знаний. Он как-то не доверял своей же науке. Может быть, не доверял, как это ни парадоксально, именно из-за легкости своих находок и открытий, легкости, за которую расплачивался всю жизнь. Загнать питекантропа в небытие старику было, однако, не под силу. Низколобый предок одолевал и вдруг перед самой смертью своего «патрона», словно в насмешку, снова объявился на Яве. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯПИТЕКАНТРОП II ДОЛГОЖДАННЫЙ. ПИТЕКАНТРОП III ЮНЫЙ. ПИТЕКАНТРОП IV МОЩНЫЙ Эйнштейн, познакомившись с вопросами и тестами, при помощи которых Эдисон выбирал сотрудников, признался, что почти ни на один вопрос ответить не может, но знает, в каких справочниках можно найти все необходимое. Эйнштейн отвечал как представитель очень развитой науки, такой науки, где количество фактов, которое надо знать ученому, сравнительно невелико: есть точные формулы, по которым многие факты выводятся и объясняются; и есть много разработанных справочников. Развитая наука уже сильна специализировалась, «всем» заниматься нельзя, да и не нужно. Зато науки, еще не имеющие всеобъемлющих формул, куда более отягощены фактами, и эрудиты, которые все знают, играют там важнейшие роди. Если б можно было статистически проанализировать знания крупных знатоков истории, океанологии, антропологии, а затем физиков и математиков не меньшей квалификации, то оказалось бы, что факты, которые обязательно нужно запомнить, занимают у первой группы специалистов значительно больше места, чем у второй. Более квалифицированный физик отличается от менее квалифицированного прежде всего тем, что «лучше думает»… Профессора антропологии от его юного аспиранта отличает прежде всего заметная разница в объеме известных им фактов. Конечно, не нужно слишком буквально понимать автора этих строк: и профессора физики владеют кое-какими фактами, неизвестными аспирантам, и хорошие антропологи не только больше знают, но и больше умеют. Речь идет о главных особенностях и различиях. Современный физик — скорее узкий, чем широкий специалист. Антрополог не располагает таким великолепным научным вооружением, как вышеупомянутый его коллега, но зато (имеются в виду лучшие представители этой профессии) и сегодня оа «человек Возрождения», человек из эпохи «великих географических открытий». Он все знает, он просто обязан заниматься и гейдельбергской челюстью, и синантропом, и неандертальцем, и шимпанзе сразу — иначе ничего не сделает. Он эрудит, путешественник, фантазер, романтик. Неразвитость его науки, недостаток формул отчасти компенсируются цельностью фигуры ученого, отсутствием слишком узкой специализации. В общем так можно еще долго философствовать, и все для того, чтобы подчеркнуть: антропология — одна из самых счастливых наук. Во-первых, она только началась, эта наука, отчего и обладает молодой прелестью и задором. Во-вторых, предмет этой науки — законы развития человека и человечества — всегда актуален. В-третьих, должны же вслед за Дарвином — «антропологическим Ньютоном» — появиться антропологические Эйнштейны, Планки, Боры. После этого вступления, которое могло быть помещено и в любой другой главе, следует вернуться к повествованию. Однажды, дело было в 1936 году, молодой голландский геолог Ральф Кенигсвальд попросил аудиенции у Евгения Дюбуа. Старик заявил сначала, что нездоров и не хочет, чтобы его тревожили, но Кенигсвальд настаивал и для приманки сообщил, что недавно прибыл с Явы, где несколько лет странствовал по самым глухим уголкам острова, составляя его геологическую карту. Между прочим, он побывал в Триниле и может сообщить Дюбуа подробности интереснейшего открытия, в котором принимал участие: близ деревушки Нгандонг, на берегу все той же необыкновенной речушки Соло, за короткий срок выкопали больше 25 тысяч костей ископаемых животных и 11 человеческих черепов. Было неясно, заинтересуется ли профессор Дюбуа нгандонгским человеком, потому что к питекантропу тот прямого отношения не имел и принадлежал к более поздней человеческой стадии — неандертальцам. Но зато все это имело отношение к Яве, к романтической молодости Дюбуа. Профессор дал согласие на встречу. «Он нас принял в своем салоне, — вспоминает Кенигсвалъд, — большой, широкоплечий, внушительный, со стереотипной улыбкой». Вскоре наступает наиболее драматический момент встречи: со всей возможной деликатностью молодой геолог просит разрешения взглянуть на питекантропа. Дюбуа хмурится и отправляется в соседнюю комнату, чтобы позвонить в Лейденский музей. Дверь остается открытой, и Кенигсвальд хорошо слышит, как профессор узнает, не пытался ли его гость самостоятельно проникнуть в «священный алтарь», где хранятся останки питекантропа. Из музея отвечают, что Кенигсвальд таких преступных попыток не делал, и только тогда успокоенный Дюбуа дает разрешение. В Лейдене перед Кенигсвальдом открывают сейф с двойными стенками, где покоится Его Величество Питекантроп I. Опытный взгляд специалиста сразу отметил темно-коричневые, сильно минерализованные края черепной крышки. Кости были изрядно повреждены щелочными водами, омывавшими их сотни тысячелетий. Впрочем, никаких неровностей на черепе уже не было видно, так как Дюбуа для изготовления муляжей погружал кости в особый состав. Зато внутри черепной крышки ясно различались отпечатки мозговых извилин. Кенигсвальда охватило волнение, подступили вопросы. Конечно, черепная крышка мала для человека, но рядом лежит совершенное бедро питекантропа. А может быть, это бедро другого существа? Если только два существа случайно умерли и сохранились в одном месте… Условием развития настоящей науки является повторяемость экспериментов, возможность многократной проверки. Как ни замечательно было открытие первого питекантропа, оно много проигрывало оттого, что не было второго, третьего… «Утро в Лейдене, — вспоминает Кенигсвальд, — было для меня решающим». Должность геолога, которую он занимал несколько лет на Яве, ликвидировали, время было трудное (застой в экономике, близость второй мировой войны). Но, кладя обратно в сейф уникальные кости, Кенигсвальд твердо решил: «На Яву!» В том же 1936 году ученый начал новые многолетние странствия по джунглям, вдоль речек, по краям вулканических кратеров и морскому побережью Явы, иногда выполняя задания правительства и частных фирм, чаще на свой страх и риск. К этому времени у него, как и у других специалистов, накопился немалый опыт. Теперь уже никому не пришла бы в голову фантазия, запечатленная в рисунке знаменитого дарвиниста Томаса Гексли: ископаемая лошадь — эогипус — и верхом на ней ископаемый человек — эохомо. Теперь любому специалисту было известно, что пралошадь старше прачеловека примерно на 50 миллионов лет. На древней цепи Зондских островов с незапамятных времен вулканы несли жизнь — плодородный пепел, и смерть — потоки лавы и тучи вулканической пыли. Далеко на северо-запад, к Малайе и Китаю, протянулись сотни маленьких островков, как бы намекающих на далекое прошлое архипелага, на древние материковые мосты, соединявшие его с Азией, мосты, пропустившие оттуда сотни тысяч животных, и, может быть, не только животных… Материковые мосты рухнули от одного, десяти, может быть, десятков тысяч чудовищных извержений, которые мы с вами отлично бы помнили, если б могли унаследовать память потрясенных чудовищной стихией далеких предков. Два древних слоя, памятники двух больших эпох, открывались на Яве. Один слой, сравнительно близкий, со времен которого уцелело и ныне здравствует три четверти животных видов, а вымерла только четверть, — пора буйволов, носорогов, ископаемых орангутанов и нгандонгского неандертальца: примерно 30–100 тысяч лет назад. Пониже этого слоя шли те самые кости, которые Дюбуа и супруги Зеленки нашли на тринильеких откосах: это время питекантропа. Древний нгандонгский слой и древнейший гринильский слой были главными путеводителями по яванским тысячелетиям. Но вскоре геологические пути привели Кенигсвальда в страну нефтяных холмов между Сурабаей и Моджокерто, в восточной части острова. Там из-под земли очень часто извлекались кости, не похожие на те, что встречались в двух известных слоях. Здешние ископаемые гиппопотамы и олени успели вымереть уже ко времени питекантропа I. Попадались и останки очень примитивных быков-антилоп, типичного животного древнейшей ледниковой эры. Получалось, что обнаружился слой еще более древний, чем два прежде известных. По имени деревушки близ Моджокерто древнейшему пласту было дано имя «слой Джетис». Кенигсвальд убедился, что когда-то в этих краях была громадная дельта исчезнувшей реки, а в дельте множество ископаемых костей. Геолог не имел средств на организацию раскопок слоя Джетис, но, уверенный, что искать надо, оставил здесь своего мантри. Мантри — незаменимые помощники европейских антропологов и геологов. Это местные жители, участвующие в раскопках, знающие, что нужно и что важно, хорошо умеющие отличить череп человека от черепа слона и понимающие, что интересные находки нельзя уносить, не зафиксировав точно их место. Мантри по имени Анджойо вскоре откопал любопытный маленький череп, с большой осторожностью достал его и тут же сообщил Кенигсвальду, что нашел голову древнего орангутана. Кенигсвальд мгновенно явился и с одного взгляда понял, что открыт не оранг, а человек. Малая длина черепа — 14 сантиметров — объяснялась тем, что это был ребенок примерно двух лет. К сожалению, ни зубов, ни костей лица не сохранилось. Малышу было присвоено звание питекантропа моджокертского. Он поразил ученых своей древностью (намного древнее питекантропа I) и вызвал сомнения. Главным скептиком был не кто иной, как профессор Дюбуа. Прежде всего он протестовал против наименования: ведь найден человеческий череп, а питекантроп — это только гигантский гиббон и никакого отношения к человеку не имеет. То, что нашел Кенигсвальд, должно отнести к пигмеям или другим людям, по типу приближающимся к современному человеку. Древность слоя, в котором нашли ребенка, Дюбуа не смущала: мало ли что могло произойти в прошлом? Могли, например, ребенка похоронить, отчего он и оказался в слишком глубоком слое. Кенигсвальд не сомневался в своей правоте, но понимал также, что другие имеют право на сомнения и надо еще искать. Осенью 1937 года геолог в который уже раз отправляется на восток острова: сначала поездом, затем на двуколке, наконец, пешком вдоль рисовых полей. На этот раз он торопится в Сангиран, что на берегу мутной речушки Кали-тжеморо (приток все той же неистощимой реки Соло) под сенью того же молчаливого и мрачного вулкана Лаву, который и теперь господствует над пейзажем, как несколько десятилетий назад, когда в этих краях странствовал молодой Дюбуа, и как сотни тысяч лет назад, когда в этих краях охотился питекантроп. Даже не нагибаясь, Кенигсвальд ясно видит торчащие там и сям окаменелые кости древних животных. Казалось, в краю бурь, тропических ливней и страшных извержений не должно уцелеть слишком много. Но в то же время именно здесь бурная стихия переворачивает, смывает пласты и регулярно выбрасывает на поверхность то, что скрывается в глубинах. Поездка на этот раз вызвана тем, что в ящике с разными окаменелостями, прибывшем по его адресу, обнаружилась ископаемая человекообразная челюсть. Увидав ее, ученый догадался, что Атма времени не терял. Атма был не просто мантри, а, можно сказать, «двойник» Кенигсвальда. Прежде он работал садовником у одного из друзей ученого. Случайно узнав, чем интересуется европеец, Атма однажды поднес ему отличный каменный топор, и с тех пор они работали вместе: когда были деньги, вдвоем отправлялись на раскопки; когда денег не хватало, Атма ведал домашним хозяйством Кенигсвальда. Подходя к Сангирану, антрополог мечтал, чтобы проблема обезьяночеловека окончательно разрешилась и чтобы попалась такая добыча, которую нельзя было бы принять за кого-либо иного, кроме питекантропа II. Кенигсвальд вспомнил, что еще несколько лет назад писал: «Если когда-либо будет открыт новый питекантроп, то это будет в Сангиране». И вот теперь он надеялся, что найденная челюсть позволит отыскать вожделенный череп. Прибыв в деревушку, Кенигсвальд собрал жителей и, показав находку Атмы, объявил: десять центов за каждый новый фрагмент! (Большая цена: прежде платили, например, за ископаемый зуб от половины до одного цента!) Дальнейшие события развивались стремительно. Жители принесли много обломков, не имевших отношения к делу. Кенигсвальд, хорошо зная благодаря Атме местные обычаи, понимал: люди его не обманывают; они в самом деле усмотрели сходство своих находок с обломками черепа, и, если не принять приношения, будет обида и не будет розысков. Ученый тайком, при помощи Атмы, просортировал кости, а затем отправил мантри за много миль с тайным приказанием — зарыть: на месте оставить обломки нельзя, потому что жители их снова найдут и будут снова претендовать на законную плату. Но наступил день, когда Кенигсвальд пережил великую радость и ужас одновременно. Жители начали приносить фрагменты долгожданного черепа, но каждый приносил по крохотному кусочку! Ведь белый ученый сам сказал, что заплатит за каждый обломок: ну что ж, пусть обломков будет побольше! В тот же день и сам Кенигсвальд открыл часть лобной кости, а к вечеру у него в руках оказалось уже около сорока фрагментов драгоценнейшего черепа. Тогда ученый выставил деревне угощение — рис и соль. Появился туземный оркестр, танцовщицы, и всю ночь округа оглашалась гимнами, приветствовавшими возвращение из преисподней нового питекантропа. Препаратор Берман в Бандунге, тщательно проанализировав все сорок кусочков, собрал из них почти целый череп. Едва появившись, череп доказал сразу две важные истины: во-первых, что он принадлежал существу того же вида, который открыл в этих местах 40 лет назад Евгений Дюбуа; во-вторых, теперь можно было не сомневаться, что это не гиббон, а примитивный человек, и никто иной.    Питекантроп-2, найденный Кенигсвальдом Когда череп был восстановлен, Кенигсвальд послал большую фотографию в Голландию на адрес Дюбуа. Была надежда, что старик обрадуется, так как теперь удалось окончательно доказать ту самую идею, которую он так рьяно защищал в молодости и которую выразил в самом имени: питекантроп, обезьяночеловек. Однако Дюбуа не обрадовался. Он долго комбинировал и перемещал отдельные части фотографии и и вдруг сделал сенсационный вывод: до соединения кусочков черепа воедино они были уменьшены на десять-восемнадцать миллиметров, а без этого сангиранский череп будто бы выглядел как обыкновенный череп неандертальца или современного человека! Снова все та же схема: питекантроп I — это гиббон, все другие находки на Яве не питекантропы, а люди, близкие по типу к современным. Кенигсвальд протестовал против намеков Дюбуа. Профессор ехидно извинялся. Он заявил, что не думает, будто Кенигсвальд нарочно подпилил кости, но кусочков столько, что даже он, Дюбуа, несмотря на 50 лет практики, не смог бы правильно установить точные очертания такого черепа. А на самом деле череп был собран правильно. Позже при помощи новых технических методов ясно установили, что швы на черепе нигде не прерываются и точно совпадают. Следы мозговых извилин на разных фрагментах сходились тоже. Между прочим, открылось, что так называемое поле Брока (область мозга, управляющая речью) у питекантропа II неплохо развито. Стало быть, он говорил или, во всяком случае, начинал разговаривать. Голова второго питекантропа уступала по величине первому (всего 775 кубических сантиметров), но все же по всем статьям была на него очень похожа. Может быть, питекантроп I был мужчина, а II — дама… Вскоре Кенигсвальд отправился со своими трофеями в Пекин, в гости к синантропу. На громадном столе в лаборатории Вейденрейха была устроена неповторимая выставка: на одном краю положили череп синантропа, на другом — питекантропа II. Долго антропологи ходили вокруг них, рассматривали, молчали, спорили и соглашались. Синантроп имел лоб более округлый, «разумный», кости его были менее окаменелыми (он все-таки моложе на сотню-другую тысячелетий, да и обитал в пещере). Однако даже неспециалисту была очевидна близость, сходство двух обезьянолюдей, живших почти на одном меридиане, но разделенных пятьюдесятью параллелями. Ява и Китай были в те годы великими Эльдорадо науки. Кенигсвальд, возвратившись, продолжал копать, соревнуясь с охотниками за синантропом, и в 1938 году не замедлил появиться скромный юноша питекантроп III (не весь юноша, только фрагмент его черепа), а через некоторое время из слоя Джетис поднялся могучий, мощнее всех других, питекантроп IV. Затылок его сохранил след страшного удара: он пал в бою или спасаясь от себе подобного. У него были и ярко выраженные человеческие и определенные обезьяньи черты (ни у кого из обезьянолюдей до той поры не находили, к примеру, так называемой диастемы — промежутка между верхними зубами, в которые могли бы входить нижние большие клыки, как в пасти оранга!). Поскольку последний питекантроп был во многом не похож на остальных, его выделили в особый вид — «питекантропус робу-стус» («питекантроп мощный»). Так образовалась целая семья питекантропов — три взрослых, юноша и ребенок, хотя и моджокертский ребенок и «робустус» были веков на 100–200 постарше любого другого члена этого «семейства». Кенигсвальд открыл и каменные орудия. Правда, их нашли отдельно от питекантропов, и, возможно, то были орудия несколько более поздние, но все же очень, очень древние орудия. Затем несколько орудий обнаружилось в тринильском слое, и, хотя рядом не было костей, Кенигсвальд был уверен, что это «его» орудия. Может быть, питекантроп метал или использовал как-то иначе также и таинственные тектиты (билли-тониты), круглые и блестящие? Эти стекловидные камни встречаются в Восточной и Юго-Восточной Азии почти повсеместно, но преимущественно в слоях Триниля. «Если я не ошибаюсь, — пишет Кенигсвальд, — то чудовищный дождь биллитонитов (может быть, несколько роев) падал на землю в конце среднего плейстоцена (примерно время питекантропов I и II) на Австралию и Юго-Восточную Азию». Несколько тысяч веков назад бродили питекантропы по берегам яванских рек, и кто знает, может быть, ходят по земле, их прапрапра… (25 тысяч раз) внуки. И может быть, среди прямых потомков именно этих открытых учеными обезьянолюдей числятся и те, кто совсем не верит в таких предков. Был он в то время самым умным существом на Земле. Сейчас, в наши дни, нет на земле ни одного животного, которое могло бы сравниться умом с мудрейшим питекантропом. Четыре питекантропа свидетельствовали против Евгения Дюбуа. В 1940 году, когда Кенигсвальд завершает свои походы за питекантропами, фашисты вторгаются в Голландию, 82-летний Дюбуа умирает, так и не соглашаясь вернуть человечеству сотни тысячелетий истории и разъяренный упорным нежеланием этого самого человечества расстаться с дарованным предком. А на другом конце земли, на берегу яванской реки Соло, остался памятник удивительной жизни и заблуждений этого человека — простой каменный столб, на котором выгравировано: «Р. Е. 175 м. ONO. 1891–93», — что означает: «Питекантропус эректус (обезьяночеловек прямоходящий). Открыт в 175 метрах к востоку-северо-востоку от этого места в 1891–1893 годах». ГЛАВА ПЯТАЯЧЕЛОВЕК У ВЕЛИКАНОВ Когда Кенигсвальд прибыл в 1964 году в Москву на антропологический конгресс, коллеги смотрели на него как на флибустьера или древнего землепроходца. Кенигсвальд признается: в молодости он и мечтать не смел о том, что после увидел. «Яву исходил вдоль и поперек, спускался в пещеры синантропа, рылся в кладовых китайских аптек, посещал места замечательных открытий в Южной Африке, бывал в знаменитом Олдувэйском ущелье среди восточно-африканских степей». Китайские аптеки попали в перечень вместе с Явой, синантропом и Олдувэем (о чем, кстати, речь впереди). Действительно, китайские аптеки, открывшие путь к синантропу, сослужили при помощи Кенигсвальда еще одну большую службу антропологам. Сначала вежливо кланяющиеся китайские аптекари не понимали ученого: он просил у них зубы всех животных, какие в аптеке имеются, и на прилавке появлялось все, что угодно: челюсти тигров, резцы оленей, — но только не ископаемые обезьяньи и человеческие зубы. Тогда Кенигсвальд захватил с собой хорошо иллюстрированную книгу о древних животных и показал аптекарю в Бандунге рисунок древних аммонитов, населявших моря в эру ящеров. Хозяин аптеки заулыбался и принес раковины, похожие на изображения. Рисунок древнейших обитателей морей, трилобитов, привел к появлению на прилавке очень похожих тварей — сушеных мокриц. Этот своеобразный обмен, рисунок — вещь, длился долго, и Кенигсвальд получил несколько очень интересных окаменелостей. Наконец дело дошло до зубов. Китаец закивал головой и принес большой зуб носорога. Когда Кенигсвальд назвал животное, хозяин вежливо поправил: «Это зуб не зверя, а дракона». Кенигсвальд запомнил урок и отныне во всех аптеках спрашивал зубы дракона. Этот рецепт позволил ему приобрести немало замечательных «лекарств». Перед войной, в годы экономического кризиса, аптекари, чтобы избежать разорения, предлагали посетителям богатейший выбор драконьих зубов. В Маниле, столице Филиппинских островов, Кенигсвальд раздобыл «зубы дракона второго сорта», которые оказались чрезвычайно интересными зубами ископаемого орангутана. Голландец вошел во вкус и всюду, где были китайские аптеки, — в Сиаме, Индокитае, Малайе, Гонконге, — везде он покупал. Он сумел приобрести зубы ископаемых зверей даже в китайском квартале Сан-Франциско и на Мотт-стрит в Нью-Йорке! «Ничего в жизни не воспламеняло меня сильнее, — вспоминает ученый, — чем поиски ископаемых древностей в китайских аптеках». В конце концов было сделано так много находок, что возник забавный научный термин — «аптекарская фауна», «аптекарские виды». В 1939 году, в разгар своих яванских открытий, Кенигсвальд попал в Гонконг, по привычке обошел аптеки и, между прочим, купил несколько зубов гигантского размера, принадлежавших человекообразной обезьяне. Они были больше, чем клыки самого мощного оранга или гориллы. Неведомого гиганта Кенигсвальд назвал «гигантопитеком Блэка и Кениг-свальда» (дань уважения первооткрывателю синантропа). После войны в Китае нашли еще более полусотни громадных зубов. Специалисты подсчитали, каков был рост древнего гигантопитека, если его размеры пропорциональны величине зубов. Решили, что, если исходить из закономерности человеческого организма, великан поднимался на три с половиной и даже четыре метра, если же вычислять по «обезьяньим формулам», то существо выглядело менее внушительно, но все же превосходило самого высокорослого баскетболиста и достигало примерно 240–250 сантиметров. Древняя обезьяна поражала воображение. Она позволяла рисовать фантастические картины первобытного леса, среди которого, не скрываясь, движутся непобедимые гиганты, практически не имеющие врагов. Мысль о том, что гигантопитек был добродушен и травояден, недавно стала сомнительной: в китайском гроте Лэнцзай (отвесная скала, высота 90 метров!) Пэй Вэнь-чжун обнаружил челюсть могучей обезьяны и вместе с ней кости крупных травоядных животных. Очевидно, великаны без труда затаскивали наверх, по крутой скале тяжелых животных. Никаких орудий труда в пещере не нашли: гигантопитек был огромной обезьяной, хотя и весьма человекообразной, жившей примерно в одну эпоху с питекантропами и синантропами.    Гигантопитек Пока делались эти удивительные находки, вторая мировая война расползалась по планете. Родина Кенигсвальда — Голландия была оккупирована, фашисты уже вторглись в СССР, готовилась к нападению Япония. Летом 1941 года Кенигсвальд жил в Бандунге на Яве, даже и не мечтая об охоте за ископаемыми. Но, видимо, этот человек обладал каким-то свойством притягивать находки и тогда, когда о них почти не думал. Именно в это лето один из старых мантри Кенигсвальда прислал в Бандунг фрагмент челюсти. Фрагмент был найден недалеко от того места, где обнаружили питекантропа IV, и примерно в том же слое—древнем слое Джетис. Челюсть изумила даже видавшего виды Кенигсвальда: без сомнения, это человеческая челюсть (зубы сравнительно невелики), но ее размер таков, что пришелся бы впору могучему современному орангу. Поскольку у людей и человекообразных обезьян чем больше челюсть, тем больше рост, получалось, что открыт гигантский человек ростом в два с половиной метра. Конечно, нельзя точно ручаться, что рост его был именно таков, — для этого требовалось разыскать еще какие-нибудь фрагменты скелета, — и все же скорее всего был открыт именно великан. Около недели Кенигсвальд таскал челюсть в кармане, чтобы иметь возможность в любое время дня доставать ее, разглядывать и убеждаться, не грезит ли он. Рассматривая, таким образом, свой трофей, Кенигсвальд, между прочим, обнаружил на челюсти замечательный костный выступ — spina mentalis, — тот выступ, на котором закрепляются мускулы языка, так что мы можем совершать им разнообразные манипуляции, то есть попросту — разговаривать. Этот выступ вовсе отсутствует у обезьян, но у синантропа и гейдельбергской челюсти есть, у питекантропа, Кенигсвальд считает, тоже должен быть (хотя до сих пор не обнаружено ни одной соответствующей части черепа). И вот, оказывается, spina mentalis была и у гиганта: он говорил, он был человеком. Значит, ему нельзя давать научного имени, оканчивающегося на «питек»—обезьяна. Он заслуживает быть причисленным к «антропам» — людям. И Кенигсвальд нарекает его «мегантроп палеояванский». «Мегантроп» значит «огромный человек». Легенды древних народов о великанах, гигантах, титанах, не сложены ли они о гигантских людях и гигантских обезьянах? Конечно, великаны, которых нашел Кенигсвальд, жили сотни тысяч лет назад, но кто знает, когда наступил их последний час? Это загадка: такая же, впрочем, как и начало, происхождение, родословная гигантов. Чувствуя приближение войны, Кенигсвальд послал в Нью-Йорк на имя Вейденрейха муляж драгоценной челюсти. Это было сделано буквально накануне роковых событий. 7 декабря 1941 года японская армия, авиация и флот обрушились на Пирл-Харбор, Гонконг, Сингапур, Филиппины, Индонезию. Началась война на Тихом океане… Ее жертвами стали сотни тысяч людей, множество городов, сел, памятников культуры. Атаке подвергся не только двадцатый век, но и все предыдущие. Демон фашизма словно решил лишить людей не только настоящего и будущего, но и стремительно заглатывал прошедшее. Арестовывая американских, английских и других вражеских подданных, а также захватывая их имущество в Китае, японцы не пощадили и коллекцию синантропов. После войны делались попытки найти хотя бы остатки громадных и бесценных коллекций Блэка, Вейденрейха, Пэй Вэнь-чжуна и других ученых, но неудачно. Один череп нашелся было в Шанхае, но это оказался искусно сделанный муляж головы синантропа. Вейденрейх, к счастью, многое сохранил своими замечательными публикациями и фотографиями, и все же потеря синантропов ужасна. Достаточно сказать, что никакие новые технические методы теперь нельзя применить к громадному собранию костей пекинского человека. Правда, после войны китайские ученые нашли еще несколько зубов ископаемого человека, а также челюсть, остатки орудий. В уезде Ланьтян (900 километров юго-восточнее Пекина) отыскали целую челюсть ланьтянского синантропа, но пропажа главной коллекции пока не восполнена. Кенигсвальд сумел Глучше подготовиться к войне: были изготовлены отличные муляжи всех яванских ископаемых находок. Затем их нарочно смешали с пылью от специальной смеси, чтобы оккупанты приняли копию за подлинник. Когда японские армии приблизились к Яве, американцы предложили перевезти кости питекантропов, мегантропа и нгандонгского неандертальца в США, однако Кенигсвальд и его коллега отказались расстаться со своими открытиями. Вскоре японцы захватили Яву. Великолепную верхнюю челюсть питекантропа жена Кенигсвальда прятала всю войну, но большую часть ископаемых останков ученый доверил застрявшим на острове швейцарскому геологу и шведскому журналисту: как представителям нейтральных стран им угрожала меньшая опасность. Через несколько месяцев, однако, швед услыхал, что японцы собираются его обыскать. Тогда он запрятал драгоценные зубы питекантропа и гигантскую челюсть в громадные бутылки от молока и зарыл их в саду, где все благополучно сохранилось до конца войны. Древним костям подземное существование было не в диковинку. Так прошло несколько тяжелых лет. В конце войны Кенигсвальда и многих его друзей загнали в японский концлагерь на Яве, где летом 1945 года и пришло освобождение. Выйдя на свободу, ученый узнал, что его семья уцелела, сохранились и драгоценные находки — вернее, все, кроме одной: череп нгандонгского человека как подарок императору был отправлен в Японию, где «пережил» все бомбардировки и уцелел до конца войны. О его пропаже Кенигсвальд сообщил американскому командованию, и год спустя в Нью-Йорке молодой офицер разыскал ученого и вручил ему череп яванского неандертальца, обнаруженный в Киото, древней столице японских императоров. Когда Кенигсвальд приехал в Нью-Йорк, он нашел там Вейдеырейха, уверенного, что голландец погиб, а его находки исчезли. Вейденрейх был потрясен пропажей синантропов, хотя внешне оставался спокоен и продолжал работать. Полтора года оба антрополога трудились вместе, затем Кенигсвальд вернулся в родную Голландию, а Вейденрейх в 1949 внезапно умер. «Исчезновение синантропов поразило его сильнее, чем мы думали», — пишет Кенигсвальд. Обстоятельства не позволили открывателю питекантропов возобновить свои раскопки в Индонезии, но через несколько лет он получил оттуда приятную новость. Доктор Питер Маркс из Бандунгского университета в 1952 году добрался до Сангирана, где в течение многих лет профессионалы-антропологи не появлялись. Оказалось, что жители селения накопили больше семисот килограммов ископаемых костей, дожидаясь, когда же приедет за ними их старый знакомый Кенигсвальд, которому когда-то нашли 40 обломков по 10 центов за обломок, а после пировали и плясали. Среди груды окаменелостей Питер Маркс отыскал новую гигантскую челюсть, не меньшую, чем у первого мегантропа, и подтвердил, что находка великана в 1941 году не была открытием случайного индивида, «урода». (В 1965 году там же нашли еще одного питекантропа — обломок черепа.) Вторая мировая война завершила целую эпоху человеческой истории. Примерно к этому же времени относится и важный рубеж науки, которая занимается древнейшим прошлым человека. Кое-что прояснялось. Когда-то путешественники дарили себе, друзьям, своим странам, человечеству новые острова, материки, океаны. Теперь вошло в моду дарить целые эпохи. Множество находок сравнительно поздних ископаемых людей позволило в конце 20-х годов Алену Хрдличке, чехословацкому ученому, работавшему в США, сделать важнейший вывод: существовала неандертальская стадия человеческого развития. Хрдличка подарил людям примерно 600 веков их истории (40–100 тысяч лет назад, время неандертальцев). Синантроп, давно исчезнувший, позволил продвинуться в глубь веков еще на 250–300 тысячелетий, то есть на добрую сотню наших эр, эпох, периодов. Наконец, Евгений Дюбуа, против желания, и Кенигсвальд, по убеждению, довели нас до питекантропов и их таинственных гигантских современников. Долгое время точный возраст их оставался неясным, но все равно портрет питекантропа украшал первую страницу главы о первых людях в любом учебнике дарвинизма или древнейшей человеческой истории. Несколько десятилетий питекантроп был первым человеком. Геологи на глазок давали ему миллион лет, но только в 1962 году все тот же неутомимый, хотя и поседевший, Кенигсвальд смог предложить более точный результат. В Гейдельбергскую физическую лабораторию он передал несколько образцов для так называемого калиево-аргонового анализа: прежде всего кусочек базальта, соответствовавшего второму, тринильскому, слою Явы, тому слою, в котором были найдены питекантропы I, II, III. Затем Кенигсвальд переслал в лабораторию 24 круглых стекловидных шарика, загадочных вулканических тектита, найденных в одном разрезе с костями питекантропов. Пришли ответы. Базальту было 495 тысяч лет (с точностью плюс 100 тысяч—минус 60 тысяч лет) Средний возраст тектитов оказался 610 тысяч лет. В общем Кенигсвальд остановился на цифре 550 тысяч лет, как среднем возрасте питекантропа Понятно, моджокертский ребенок, питекантроп IV и мегантроп должны быть постарше, так как найдены в более древних слоях. Некоторые расчеты Кенигсвальда вызывают сомнение у специалистов, но в целом вряд ли удастся сильно поколебать «анкету» питекантропов. Их время — 500–700 тысяч лет назад. К середине 40-х годов XX столетия картина древнейшего прошлого казалась ясной, несмотря на малое число штрихов и деталей, ее образовывавших. Выражаясь языком библейским, содержание картины было таково: Обезьяна роди питекантропа (и гигантов иже с ним), питекантроп роди синантропа, синантроп роди неандертальца, неандерталец роди нас с вами. Картину портил, даже угрожая порою ее стереть, только джентльмен из Пильтдауна. ГЛАВА ШЕСТАЯДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ПИЛЬТДАУНА  "Человек из Пильтдауна" В сейфе Британского музея покоились и, может быть, сейчас покоятся окаменелые кости пильтдаунского человека, «первого англичанина». Эти кости почитались как самая выдающаяся находка на британской земле. На парадной лестнице Геологического общества в Лондоне более 40 лет висела и, может быть, сейчас висит большая картина: профессор Артур Кизс измеряет череп. Наблюдают Эллиот Смит и Смит Вудвард, крупнейшие антропологи и палеонтологи. На заднем плане картины разместились менее образованные джентльмены, и среди них скромный археолог-любитель Чарлз Даусон. В 1909 году Даусов принес в Британский музей фрагмент древнего черепа и сообщил, что это находка одного рабочего, сделанная близ Пильтдауна (графство Суссекс, на полпути между Лондоном и южным берегом Англии). Сэр Смит Вудвард тут же отправился в Пильтдаун и на месте, указанном Даусоном, в течение трех лет добыл еще восемь частей того же черепа. Высокий лоб древнего человека и его большой мозг (1350 кубических сантиметров) говорили о том, что пильтдаунец был не глупее нас. Единственная несколько примитивная черта черепа — довольно большая толщина его костей (10 миллиметров), однако это обстоятельство мало что меняло, поскольку и в наши дни можно иногда встретить вполне разумных людей с такими же костями. Пильтдаунский череп поразил исследователей своей древностью: все девять фрагментов его были покрыты характерным темно-красным «налетом времени», хорошо известным «охотникам за черепами». К тому же рядом были найдены очень древние каменные орудия. Раскопки, понятно, продолжались, и в 1912 году в той же яме нашли нижнюю челюсть. Она была настолько примитивна по сравнению с нашими цивилизованными челюстями, что некоторые специалисты приняли ее за останки шимпанзе (впрочем, аубы по величине и структуре были ближе к человеческим). Позже Вейденрейх склонялся к тому, что это ископаемый оранг, а его ученики утверждали, что открыта челюсть неизвестного вида: «бореопитек», «северная обезьяна». Большинство антропологов, однако, настаивало, что череп и челюсть принадлежат одному существу; в самом деле, как объяснить иначе, что довольно близкие части скелета были найдены в одном месте? Почему древней обезьяне понадобилось умереть именно в той точке, где покоился человек с высоким лбом? Споры вокруг пильтдаунских костей порою достигали того крайнего предела корректности, за которым начинается беспредельная некорректность. К этому времени находка питекантропа и гейдельбергской челюсти сделала изрядную брешь в рядах ортодоксов, и любой сомневающийся в пильтдаунском обезьяночеловеке мог быть заподозрен в невежестве и мракобесии (особенно на родине Дарвина!). Окончательно подтвердил ценность находки Чарлза Даусона нижний клык (с обезьяньими и человеческими особенностями), открытый в 1913 году все в том же Пильтдауне первоклассным антропологом Шарденом. Англичане решили, что это зуб того же самого существа, и вскоре провозгласили существо «эоантропом», «человеком зари». Под «зарей» подразумевалась, понятно, человеческая заря, сменявшая животный мрак планеты. Даусон умер в 1916 году, а Смит Вудвард был так убежден в важности эоантропа, что вышел в отставку, построил около Пильтдауна маленький домик и, как говорят, ни о чем другом, кроме как о черепе, челюсти и зубах древнего человека, не разговаривал. Поговорить было о чем: умный череп в соединении с примитивной челюстью составлял загадку. И у питекантропов, и у синантропов, и у других ископаемых обезьянолюдей череп и челюсть находилась в согласии: большая современная голова — вполне современная челюсть; если же голова меньше, древнее, то и челюсть более обезьянья. У пильтдаунского человека все было не по правилам. Но это еще полбеды. А вот чего ученые не могли никак перенести — это ужасающей древности эоантропа. Судя по глубине залегания и другим признакам, жил он примерно миллион лет назад, то есть был ровесником питекантропа и гейдельбергского человека. Отсюда следовало, что «нормальные обезьянолюди» скорее всего не были предшественниками пильтдаунца. К тому же последний, не забудем, значительно более головастый. Получалось, что питекантропы, синантропы и тому подобные — это параллельные, отставшие ветви человеческого развития, а все открытия Дюбуа, Вейденрейха, Блэка, Кенигсвальда и других, хотя и важны, но описывают лишь задворки человеческой истории, дальних вырождающихся родственников, в то время как наш великий предок — это «человек зари». Понятно, если пильтдаунец был столь развит уже миллион лет назад, то, скажем, на уровне питекантропа он должен был находиться намного раньше, еще в третичном периоде. Ничем особенно страшным нам, далеким потомкам, такой вывод не грозил. Ну, разумеется, кое-кто из расистов попытался использовать эоантропа: «Европейский человек уже в древности обогнал азиатских и африканских отсталых обезьянолюдей, откуда и пошло преимущество белой расы!» Но мало ли как могут использовать всякое открытие расисты! И позволительно усомниться в том, что без эоантропа они, бедолаги, так бы ничего не придумали. Между тем пильтдаунский человек был фактом, серьезным фактом, разрушавшим многие стройные научные системы, и с ним приходилось считаться. В конце концов вполне нормально, что одна или несколько ветвей при развитии вида обычно вырываются вперед. Если естественный отбор создает, например, передовых и отсталых оленей или тигров-отличников и тигров-неудачников, то закономерно также сосуществование более и менее очеловечившихся обезьянолюдей. Пока существовала загадка эоантропа, все антропологи, открывавшие новых промежуточных предков, могли допускать, что их герои некогда пали перед высочайшей «пильтдаунской цивилизацией». Профессор Кеннет Оклей из Британского музея за последние десятилетия сделался одним из самых суровых экзаменаторов, вопросов которого побаиваются даже светила антропологии. Как только где-либо открывают антропа или питека, в лабораторию Оклея посылают образцы найденных костей и породу. Впрочем, профессор предпочитает сам осматривать места раскопок. Одним из замечательных открытий профессора Оклея был метод анализа древних костей на фтор: подземные воды, омывая мертвые кости, постепенно вносят в них небольшое количество фтора. Чем больше фтора, тем кость древнее. Конечно, требовался тщательный и очень тонкий анализ, его-то Оклей и научился делать. В 1953 году ученый решил попробовать на фтор пильтдаунский череп. Результат был неожиданный: фтора в голове «первого англичанина» оказалось чрезвычайно мало. Получалось, что ему от роду не миллион и не сотни тысяч, а не больше 50 тысяч лет. Оклей, таким образом, раз в 10–20 приблизил пильтдаунского человека к нашим дням, лишив его той исключительности и таинственности, которую ему придавала сверхдревность. Но тут сразу возникли новые неясности: около 50 тысяч лет назад на земле уже существовали в большом количестве люди вполне современного типа — с большой головой и вполне современной челюстью. Такой череп, как у эоантропа, в то время (как и теперь) ничего особенного не представлял бы, но пильтдаунская челюсть и тогда и сейчас была бы совершенно немыслимым, невозможным уродством. Тогда другой английский специалист, Вейнер, решил подвергнуть эоантропа новому экзамену по химии. На этот раз измерялось содержание азота. Известно, что у современного человека в костях примерно четыре процента азота, а в могильниках возрастом в несколько тысяч лет—не больше двух процентов… И тут-то началось. Ни в одной из частей черепа не оказалось больше 1,4 процента азота: количество вполне нормальное для возраста в несколько сот веков, определенного Оклеем. Зато челюсть, знаменитая пильтдаунская челюсть, содержала 3,6 процента азота, то есть принадлежала… современному существу! Из всех наших современников такой челюстью обладает только шимпанзе. Результат был слишком скандальным, чтобы его не проверить. Зубы эоантропа внимательно рассмотрели под лупой. Те зубы, что находились в челюсти, оказались обезьяньими и одновременно человеческими. Очеловечивание зубов явно происходило с помощью напильника. Но еще оставался выкопанный Шарденом клык. Он выглядел очень старым, использованным, но Вейнер посмел заподозрить, не подпилен ли и последний пильтдаунский зуб. Если человек слишком сильно изнашивает зубы, то на них обязательно образуется новый слой так называемого дентина. Долго искали хотя бы след этого слоя на клыке эоантропа, даже просветили рентгеновыми лучами, но ничего, ни малейших следов второго слоя не нашли. Тогда-то над клыком был произнесен приговор: никогда, ни при каких обстоятельствах он не мог быть доведен до такого состояния, находясь во рту, но легко и при известных обстоятельствах мог быть доведен до такого состояния, находясь в руках разумного существа, особенно если в тех же руках оказался напильник. Целая научная крепость развалилась на глазах. Оставался последний некрепкий бастион: отличная древняя окраска черепа и челюсти. Снова химическое обследование, и снова достаточно определенный вывод: кости обработаны бихроматом, который придает предметам красноватый оттенок. Правда, Даусон сам рассказал Смиту Вудварду, что покрыл этим составом первый фрагмент черепа, дабы его укрепить. Но потом ведь сам Вудвард извлек из суссекских песков другие части черепа: выходит, еще под землей их тоже покрасили. Кенигсвальд вспоминает, как в 1937 году он приехал в Пильтдаун и Вудвард потащил его к месту находок, несмотря на проливной дождь. Вудвард никак не мог понять, отчего после смерти Даусона не удалось сделать никаких открытий в этом песчаном карьере. Итак, к середине 50-х годов XX столетия культ пильтдаунской личности кончился, а начался он очень просто: девять фрагментов древнего, но вполне современного черепа окрасили под древность, окрасили и отшлифовали челюсть вполне современной обезьяны, заранее подпилили обезьяний клык. Затем всю эту коллекцию разбросали на определенной дистанции и на глубине, соответствующей очень древнему слою. Замысел заключался в том, чтобы антропологи не сразу все нашли и чтобы находки были сделаны их руками. Уловка удалась. Большая часть костей эоантропа была извлечена серьезными и честными учеными — Вудвардом, Шарденом, но зато все улики обвиняют теперь Чарлза Даусона, умершего, впрочем, в большой славе, почти за сорок лет до разоблачения. Какова мораль? Напрашивается нечто вроде следующего: ай-яй-яй, ну и ученые, если их так просто обмануть! От одной фальшивки, изготовленной археологом-любителем, зависело столько теорий! (Эллиот Смит, к примеру, выступил в свое время с гипотезой, что первоначально голова и мозг наших предков были не малы, а очень велики, и ссылался, конечно, на пильтдаунский череп.) Не присутствуем ли мы во всемирных масштабах при повторении ситуации из повести Доде «Бессмертный» И. (герой избран в академики за те исторические тру-ды, которые он написал. Лишь случайно новый «бессмертный» узнает, что все исторические документы, опубликованные в его трудах, изготовил горбун переплетчик: ввиду нехватки средств на дорогих женщин ему пришлось стать Екатериной II и Рабле)? Еще можно добавить к этому нравоучению, что разоблачение пильтдаунца нанесло удар по расизму и что так им, расистам, и надо. Во всем сказанном есть, конечно, немало печальной истины. Специалисты 1912 года не владели ни фторовым, ни азотным методом, но рассмотреть зуб под лупой, кажется, не возбранялось! Действительно, в молодой науке не только каждое новое открытие, но и «закрытие» способно производить коренные перевороты. Но смеяться все же легче, чем понять. Ведь специалисты были под гипнозом великолепного открытия, которое, казалось, не уступает находке Дюбуа, и, вероятно, исходили из того странного убеждения, что джентльмен не способен сфальшивить, особенно если речь идет о знакомстве с первым англичанином. Но мало какой урок оказался полезнее пильтдаунского. Теперь каждую находку проверяют не так, как прежде. Проверка требует более совершенных методов контроля, и в результате вперед движется не только антропология, но и химия, физика. Теперь антропологи могут вздохнуть свободнее, потому что «пильтдаунская тень» сошла с их находок и никому пока не удается опровергнуть, что питекантроп, синантроп, неандерталец были самыми передовыми людьми своего времени. К тому же приятно сознавать, что природа не допускает таких хулиганств, как соединение передового черепа с отсталой челюстью, а коли так, то, значит, существуют незыблемые законы природы, формулы, и, стало быть, возможны предсказания и великие открытия, не разрушающие открытий, сделанных прежде. И вообще хорошо без эоантропа. Впрочем, тому, кто чересчур уверует в благонамеренность природы, грозит пильтдаун с другой стороны: глядишь, поклонник гармонии и целесообразности начинает доказывать, что обезьяночеловек — это наш патологический современник, а питекантроп — не более чем гиббон. ГЛАВА СЕДЬМАЯMISSING LINK, НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО Эти два слова специалисты любят меньше, чем журналисты, потому что специалистам их смысл не очень ясен, журналисты же, как обычно, все очень хорошо понимают. После того как пильтдаунский человек, по выражению Кенигсвальда, был дисквалифицирован и выбыл из игры, родословная человека выглядела стройно, даже угрожающе стройно. Если не слишком беспокоиться о тысячах или десятках тысяч лет и делить историю человечества не по поколениям или цивилизациям, а «по большому счету», то есть по антропологическим типам, то вершиной родословного древа окажемся мы с вами. Сказав так, сразу отсчитываем 30–50 тысячелетий, потому что за последние 300–500 веков принципиальных изменений в физической структуре человека как будто не произошло (говорим «как будто», потому что антропологи, глядишь, завтра нечто откроют, и все переменится). Итак, мы. До нас неандертальцы. Эти могучие парни с чудовищными мускулами и большой головой (не меньшей, а порою большей, чем у нас), очевидно, владели планетой около 100 тысяч лет. Между неандертальцем и человеком нашего типа должно быть недостающее звено, соединяющее всех в единую цепь. Иначе мы ничего не поймем, а мы этого не любим. Но поскольку в этой главе речь пойдет про другое недостающее звено, куда более раннее, то к нему и отправимся. Если неандертальцы — в широком смысле — отцы наши, то в дедах уже давно ходят синантропы. Неандертальцы были 100 тысяч лет назад, а синантропы — 300–400 тысяч. Их разделяют тысячевековые пропасти, гигантские эпохи переселений, превращений, исчезновении, появлений. Как синантроп сделался неандертальцем, превратился ли именно тот, открытый Блэком, синантроп или вымер, а прогрессировать пошли его современники, не знаем, давно не знаем, не знаем, когда узнаем. Тут не то что недостающее звено — не хватает, можно сказать, всех звеньев, кроме одного-двух, которые нам достались. Но что делать? Если б можно было «просветить» землю и сразу найти в недрах кости! (Кстати, физики и археологи об этом серьезно задумываются.) Синантроп—дед. Питекантропы—прадеды, возрастом от полумиллиона лет и старше. В 1954 году французский антрополог Арамбур открыл в Марокко, в глубоком песчаном карьере африканского питекантропа, «атлантропа». Недавно венгерский исследователь Вертеш добыл затылочную кость питекантропа близ озера Балатон… Современником питекантропа был, очевидно, гигантский человек, но станем считать его боковой ветвью, не более чем двоюродным прадедом. Все известные питекантропы были современниками в том смысле, в каком нашими современниками являются строители египетских пирамид и последние обитатели древних пещер. Самым древним, архаическим человеческим существом, судя по всему, был моджокертский ребенок. Довольно долгое время его считали первым человеком. Этот маленький череп был чем-то вроде вехи, оставленной разведывательным отрядом, забредшим дальше других в глубины темного, таинственного материка. Где-то тут, думали, незадолго до питекантропа и произошло то самое чудо, скачок, таинство, когда последняя обезьяна вдруг провозгласила себя первым человеком. К середине нашего столетия исследователи находились как бы у края того важнейшего в истории Земли события, которое иногда для краткости именуется недостающим звеном. Чувствую, что не все читатели этих строк понимают, почему я так много сейчас рассуждаю: подумаешь, за какое-то количество тысячелетий до питекантропа развитая обезьяна догадалась взять палку или другой предмет, и все началось. Что тут особенного? Поймите, как все это не просто. Почему именно обезьяна, а не какая-нибудь другая хитрая, разумная тварь (дельфины!) сделала это? Что должно было произойти внутри существа, перескочившего «через пропасть»? Почему миллиардолетняя эволюция только в этот момент, на этой стадии соединила живую и неживую природу, то есть заставила высокоорганизованное существо взять в лапу (руку) примитивный безжизненный предмет — палку, камень? Какова «формула», приведшая к этому соединению: вес мозга? Двуногость? Энергетика? (Любое высшее млекопитающее расходует за жизнь на 1 килограмм своего веса приблизительно 125 тысяч килокалорий энергии—такова норма, отпущенная ему на жизнь. Человек же на 1 килограмм потребляет в 6 раз больше—примерно 750 тысяч килокалорий. Этот гигантский. энергетический скачок—только один из фрагментов той тайны, которую еще Дарвин и его противники видели, но по-разному объясняли.) Если я все еще не убедил, что толкую о чудеснейшем моменте бытия, постараюсь решить эту задачу в дальнейшем, а пока прошу поверить на слово, что величайшее событие в истории нашей планеты, второе по значению после зарождения жизни на Земле, произошло не менее 600 тысяч лет назад и не более, чем… Тут-то серьезный разговор пойдет. Питекантроп уже «по ею сторону». Он скорее человек. За неимением грани, разделяющей ею и ту, человеческую и обезьянью, стороны, перебросимся сразу на ту, где уже, без сомнения, обезьяны. Известно, обезьян третичного периода было много, и населяли они почти весь мир, не то что ныне. Если же говорить о древних антропоидах, то есть человекообразных обезьянах, так их нашли уже больше двадцати. Все они, однако, слишком уж стары для нашей задачи, древние человекообразные обезьяны. Некоторым десятки миллионов лет (дриопитек, ископаемая обезьяна, похожая на гориллу и найденная во Франции).  Дриопитек 20–25 миллионов лет Проконсулу. Эту интересную древнюю обезьяну, ископаемое шимпанзе, нашел в Восточной Африке 35 лет назад один из лучших охотников за окаменелостями, доктор Лики, встреча с которым еще впереди. (Имя Проконсул было дано в честь одной из популярнейших обезьян Лондонского зоопарка, именовавшейся Консулом. Разница между «римскими должностными лицами» составляла 25 миллионов лет, что никого не смущало).  Проконсул Интересные древние обезьяны нашлись в Индии (рамапитек, сивапитек), в Египте (фаюмская обезьяна), но им тоже не меньше десятка миллионов лет. Индийские обезьяны и дриопитек по некоторым признакам могут (крайне условно) считаться нашими прапрапра… дедами. Проконсул же любопытен тем, что, по-видимому, жил еще до разделения человекообразных обезьян на две партии: «Пойдешь направо — человеком будешь, налево — обезьяной останешься». Видимо, 10–12 миллионов лет назад в теплых третичных лесах это размежевание только-только закладывалось. Приблизительно 10 миллионов лет назад одна группа человекообразных обезьян смогла стать на человеческий путь; несколько миллионов лет члены этой группы оставались обезьянами, не теряя шансов на очеловечивание, затем произошли крупные перемены в мире и соответственно изменились обезьяны, а примерно миллион лет назад произошел скачок. В этой длинной фразе многое составляет величайшую проблему. «10 миллионов лет назад» — а может, много раньше или, наоборот, позже, и все произошло быстрее? «Одна группа обезьян» — но почему одна? Может быть, к очеловечиванию двинулось несколько групп, и, как увидим дальше, есть серьезные основания для такой гипотезы. «Смогла стать на человеческий путь», «не теряя шансов», — но ведь обезьяна не понимала, что с ней происходит, не хотела очеловечиваться сознательно, так как не могла сообразить, что это такое. Передовой обезьяне хотелось есть, пить, размножаться, то есть существовать… Мы догадываемся только, что когда человекообразные обезьяны сумели приспособиться к жизни — научились лучше прыгать по деревьям, стали непобедимыми гигантами или еще как-то устроили свой быт, как только они сделались сыты и счастливы, так сейчас же путь к человеку для них закрылся: специализация давала успех, но вела в тупик. «Крупные перемены» — вы знаете, конечно, о чем речь: установление сухого, прохладного климата, необходимость спуститься с деревьев, развить руку и так далее и тому подобное. Но страшная мысль! А если бы климат еще 20–40 миллионов лет оставался теплым и влажным? Что же, так бы обезьяна и жила на деревьях и не очеловечилась? Или иначе: может быть, теплые третичные миллионолетия весьма реакционны и если б похолодало на миллион лет раньше, то спутники летали бы уже во времена питекантропов? «Примерно миллион лет назад» — вы догадываетесь, откуда взята цифра: только по причине ее близости к временам питекантропа. Но никто за эту цифру не ручался. Итак, недостающее звено — это и есть 5 тысяч «где»? 7 тысяч «как»? 10 тысяч «почему»? «Как» и «почему» — об этом уже говорилось. Осталось — «где». Сложность проблемы неплохо отражена в старом студенческом анекдоте: Профессор: Вы ничего не знаете. Предоставляю последний выбор — два легких вопроса или один трудный? Студент: Один вопрос всегда лучше, чем два. Профессор: Где появился первый человек? Студент: На Арбате. Профессор: Как так? Студент: Это уже второй вопрос… Но нет ли в первом вопросе профессора некоторой предвзятости? Не подразумевается ли, что первый человек появился обязательно в каком-то одном месте? Но кто и когда это доказал? Если же будет спрошено более благородно: «Где могли появиться первые люди?» — тогда еще можно подумать. Америка и Австралия не баллотируются. Человекообразные обезьяны там отсутствуют, сохранились следы позднего заселения этих материков. Европа. Конечно, гейдельбергская челюсть—довод. Дриопитек тоже. Три года назад сделана, но еще не опубликована находка очень древнего человека у озера Балатон в Венгрии. И все же старейших обезьян и первых ископаемых людей здесь найдено меньше, чем в Азии и Африке, а если вспомнить, что Европа обследована лучше всего, то мы имеем право предположить: синантропы и питекантропы родом не европейцы. К тому же трудно представить, чтобы до синантропа наш далекий предок, еще не владевший огнем, был расположен жить близ ледников. Итак, Азия и Африка! Кроме всего прочего, это материки, на которых и сегодня обитают человекообразные обезьяны. Азия, Африка. Долгое время предпочитали Азию, и на то была одна, но очень основательная причина: в Азии находили ископаемых обезьянолюдей, а в Африке — нет. Потом стали склоняться к Африке по причине не менее убедительной. В Африке стали находить больше, а в Азии — меньше. Во всяком случае, центр мировой добычи недостающего звена за последнее десятилетие явно переместился на верный материк. Раймонд Дарт был одним из девяти детей австралийского фермера. Отец сумел послать его в Англию для обучения медицине, и там молодому человеку повезло: его профессорами были известные анатомы и антропологи — Эллиот Смит и Артур Кизс, но не меньшему он научился у одного из своих подчиненных. Ассистентом в лаборатории юного Дарта оказался русский эмигрант Кульчицкий, в прошлом харьковский профессор, один из крупнейших исследователей нервной системы. Молодой человек был смущен необходимостью начальствовать над ученым с мировым именем, однако многому сумел у него научиться. В 1922 году Дарт получил место преподавателя в Иоганнесбургском университете. Перед отъездом в Южную Африку Артур Кизс заметил, что в своих бумагах Дарт на вопрос о вероисповедании отвечает везде: «Свободомыслящий». Кизс решил предостеречь молодого ученого: «В Южной Африке сильная кальвинистская атмосфера. Я бы написал в графе «религия» — «протестант». Они не станут допытываться, какого сорта вы протестант и против чего вы протестуете. Все обойдется». Дарт, однако, не согласился на столь своеобразное толкование «протеста» и вскоре уж отплыл с женой в Южную Африку, надеясь там основательно заняться микроструктурой нервной системы. Но уже на пароходе судьба ученого стала определяться несколько иначе. Вместе с Дартами ехала медицинская сестра, возвращавшаяся на родину. Ученый расспрашивал ее, не слышно ли чего-либо об ископаемых находках в этой совершенно не исследованной стране. Как ни странно такое совпадение, но именно эта сестра кое-что смогла сообщить: один из ее пациентов, занимавшийся добычей алмазов, показал ей однажды странный окаменевший череп. Медицинская сестра нашла его слишком маленьким для человека, но чересчур большим для бабуина — типичной южноафриканской обезьяны. Суеверный старатель намеревался похоронить череп, чтобы его не постигло несчастье. Позже Дарт пытался найти этого человека, но напрасно. Южная Африка в ту пору была еще достаточно далека и романтична. В 20-е годы нашего столетия писатели и археологи много толковали о таинственных городах Зимбабве, о копях царя Соломона в пустыне Калахари, о таинственном алмазном береге… Возможно, эти нескончаемые разговоры только усиливали атмосферу однообразия и скуки, в которую погрузился Раймонд Дарт, прибыв в Иоганнесбург, город в то время сонный, жаркий, переполненный одинаковыми домами с красными крышами. Местная интеллигенция, представленная в основном старинными выходцами из Голландии, бурами (африкандерами), относилась к чужаку настороженно. Он искал выхода, много занимаясь медициной и при случае антропологией. Так прошло около двух лет. По воскресеньям Дарт частенько выезжал за город, чтобы поохотиться за окаменелостями. Постепенно он сумел заразить студентов своими рассуждениями о недостающем звене, ископаемых костях и древних обезьянах. Однажды ученый объявил, что вручит приз в 5 фунтов тому, кто найдет какую-нибудь окаменелость. И вот наступил весенний день 1924 года, когда ассистентка Дарта мисс Жозефина Салмон появилась перед шефом сильно взволнованная. Она была в гостях у директора кампании по добыче извести и заметила на каминной доске какой-то странный череп. Девушка стала расспрашивать, и ей объяснили, что это подарок из далекого известкового рудника Таунгс, находящегося в Бечуаналенде, на краю великой пустыни Калахари. Там, среди высоких доломитовых утесов, протекает река, с которой хорошо видны пещеры — углубления в берегах. Жозефина Салмон уверяла профессора, что на камине лежал череп ископаемого бабуина. Дарт усомнился, но взволновался: всякий новый ископаемый вид драгоценен, а обезьяний в особенности. Когда девушка принесла череп, сразу стало ясно, что это действительно древний бабуин. Дарту бросилась в глаза странная дыра в черепной крышке, будто сделанная тупым оружием. Дальнейшие события разворачивались так: Дарт поделился известием со знакомым геологом Юнгом, тот связался с начальством далекого рудника Та-унгс, съездил в пустыню и, вернувшись, рассказал Дарту, что встретил старого шахтера по имени де Брюин. Шахтер этот много лет любительски собирал кости, часто попадавшиеся во время работы, и вот как раз на прошлой неделе нашел несколько глыб, в которые были «вмонтированы» какие-то древние останки. Дарту обещали их прислать. Прошло несколько дней, Дарт сидел у окна, дожидаясь прихода гостей — молодоженов, встретив- » шихся впервые в этом доме и теперь желавших навестить его хозяев. Однако вместо гостей в воротах показались двое рабочих в железнодорожной униформе, которые несли два больших ящика. Миссис Дарт раздраженно заметила, что не худо было бы отослать рабочих до завтра, дабы не испортить костюма и торжества, но ученый уже содрал «ненавистный воротничок» и кинулся к ящикам, даже не дожидаясь африканских слуг (что предписывалось этикетом Ио-ганнесбурга). В первом ящике были случайные кости, яичная скорлупа и другие не слишком интересные предметы. Но как только была выломана крышка ящика № 2, показалась окаменевшая черепная крышка. Даже если бы это была ископаемая человекообразная обезьяна, все равно событие. Однако с первого взгляда Дарт увидел, что это не обычный череп: он имел и обезьяньи и вполне человеческие черты и, хотя для человека был не слишком велик, все же втрое превышал череп бабуина. Перерыв ящик, Дарт нашел еще часть черепа и нижней челюсти. «Гости!»—воскликнула жена. Дарт помчался переодеваться, но позже честно признавался, что никаких подробностей семейного праздника не запомнил, зато во время торжественного обеда несколько раз выбегал взглянуть на окаменелости. Древняя человекообразная обезьяна или обезьяночеловек? Два месяца Дарт тщательно исследовал и очищал свой трофей. Он писал, что «ни один ювелир никогда не обрабатывал бесценное сокровище более любовно и с такой осторожностью». Работать приходилось молотком, долотом и вязальной спицей, в постоянном страхе повредить череп. Для консультации Дарт съездил в Кейптаун и узнал, между прочим, что еще несколько лет назад был найден ископаемый бабуин, подобный принесенному Жозефиной Салмон. Разглядывая кейптаунского бабуина, Дарт заметил, что и его череп разбит злонамеренным ударом. На 37-й день работы, 23 декабря 1924 года, череп из Таунгса окончательно освободился от камня. (Разумеется, Дарт тщательно сохранил «каменную пыль», и через 33 года Кеннет Оклей, проэкзаменовав эту породу при помощи своей химии, узнал, что она состоит из розовых песков, сцементированных известью: это означало, что обладателя черепа окружала пустыня или полупустыня.) Теперь Дарт мог рассмотреть «лицо». Это было не «лицо» гориллы или другой развитой обезьяны, а скорее «лицо» человеческого ребенка, со множеством молочных зубов и начинающими прорезываться постоянными зубами. «Я сомневаюсь, — пишет Дарт, — чтобы какой-либо родитель был более горд своим отпрыском, нежели я моим «Таунгс бэби» на рождестве 1925 года». Оценивая мозг своего бэби, Дарт определил его объем (как позже выяснилось, с преувеличением) в 400–800 кубических сантиметров (горилла—600, питекантроп—900!). В пещере Таунгс находились еще остатки пятнадцати животных (бабуины, антилопы, черепахи, пресноводные крабы). К сожалению, время обитания этих животных в Африке не было известно. Не нашлись важные для датировки виды ископаемых слонов, носорогов, лошадей, кабанов. Поскольку, однако, почти все виды, найденные в пещере, к нашим дням вымерли, решили что бэби из Таунгса жил давно, более миллиона лет назад. Дарт, справедливо предположив, что и в древности в этих краях была пустыня, примерно восстановил образ жизни своего бэби и его родителей: обитали близ реки, дождей почти нет. Крупные звери, обнаруженные в пещере,' не могли быть пойманы одним существом из Таунгса (как бы велико оно ни было): очевидно, обезьяны действовали сообща, стаями. Дарта чрезвычайно интересовали дыры и трещины в черепах животных. Все эксперты, их осматривавшие, согласились, что удары нанесены чем-то вроде молотка и еще при жизни (вернее, в последний момент жизни) обезьяны. Один специалист предположил, что череп треснул вследствие падения бабуина с дерева. Дарт в ответ выдвинул только два возражения:-во-первых, бабуины по деревьям не лазают, а во-вторых, в тех краях не было деревьев. Так вырисовывалась заманчивая картина: обезьяна с некоторыми человеческими чертами (но все же обезьяна, питек, а не антроп), живущая задолго до питекантропа, Ввиду сухого климата она дблжна встать на ноги, поумнеть, может быть, начать действовать орудиями. Вот он, missing link; может быть, так все и было! Но одного бэби для целого звена явно не хватало. Как питекантропу I недоставало питекантропов II, III, IV, так и новому претенденту в предки тоже требовались товарищи. Дарт, однако, верил в свое открытие и вопреки обычаям, рекомендовавшим осторожность и медлительность, отправил в начале 1925 года в английский журнал «Nature» сообщение об открытии австралопитека африканского. «Австралопитек» означало «южная обезьяна».   Australopithecus africanus Большинство ученых сочли нужным усомниться. Работавший в Южной Африке английский (точнее, шотландский) зоолог Роберт Брум одним из первых приехал в Иоганнесбург, но зубы существа убедили его вполне. Осторожно согласился и Эллиот Смит. Зато целый отряд специалистов словно объединился с прессой для грубых контратак. «Нет ученого, даже объективного, — писал Брум, — который не выступил бы против того, кто отказывается смотреть на вещи так, как он смотрит. Но, даже имея в виду эту обычную закономерность, Дарт, я думаю, был атакован слишком грубо». Специалисты упражняли свой юмор по поводу необычного и, по их мнению, недопустимого соединения латыни и греческого в слове «австралопитек». («Австралис» — «южный» по-латыни; «питекос»—«обезьяна» по-гречески.) Одновременно Дарт получил сотню угрожающих писем со всего света. Именно в 1925 году в США развернулся печально знаменитый «обязьяний процесс», губернатор и конгресс штата Теннесси запретили учение Дарвина. Газета «Санди тайме» поместила однажды письмо, обращенное к Дарту: «Человек, стой, — подумай! Ты со своим блестящим мозгом, который бог дал тебе, стал одним из лучших агентов сатаны… Чем поможет тебе эволюция, когда ты умрешь и подвергнешься распаду?..» Подпись: «Уважающая вас, отсталая, но здравомыслящая женщина». Можно было ожидать, что в консервативной, религиозной Южной Африке дарвинисту достанется еще сильнее, однако пути, которыми движется общественное мнение, столь же неисповедимы, как и научные… Жителей Иоганнесбурга охватила прежде всего гордость за то, что у них в городе, их профессором сделано такое замечательное открытие, которое в Лондоне и Нью-Йорке хотят опорочить. Патриотизм взял верх над кальвинизмом. Эти чувства особенно усилились, когда принц Уэльский (будущий король Эдуард VIII), прибыв в Иоганнесбург, первым делом пожелал познакомиться с «бэби профессора Дарта». Любопытно, как выглядели злоключения Дарта со стороны и в его собственном представлении. Роберт Брум, чересчур увлекшись, писал, что «Дарт сделал открытие, близкое по значению к дарвиновскому, но английская печать обходилась с ним, как с провинившимся школьником… Оттого что недостающее звено стало в ту пору объектом шутки, раскопки в Африке фактически приостановились на 10 лет». Сам Дарт, однако, много лет спустя признавался, что десять лет раскопок не предпринималось отнюдь не из-за насмешек, а из-за того, что он предпочитал недостающему звену кабинетные исследования микроскопической структуры нервной системы. Кроме того, Дарт не скрывал, что ему было не до обезьян ввиду бракоразводного процесса с женой (той, которая предлагала отослать обратно ящик с «бэби»). В начале 30-х годов поисками в южноафриканских известковых каменоломнях занялся выдающийся искатель, человек, словно созданный для этого дела, уже известный читателю Роберт Брум. Одним из вдохновителей поисков был премьер-министр Южно-Африканского Союза генерал (потом фельдмаршал) Смэтс. Как известно, этот человек был одним из создателей современной расистской государственной системы в Южной Африке, лишь усовершенствованной и усиленной Маланом и Фервурдом. Расизм, исконное неравенство разных рас были стойким убеждением многих представителей южноафриканской интеллигенции. Но занятно, как Смэтс и его единомышленники раньше других сообразили, что совсем не обязательно противиться раскопкам и устраивать «обезьяньи процессы»; наоборот, надо помогать ученым, которые занимаются древнейшим прошлым человечества, а затем использовать должным образом результаты их работ, что и делалось, причем делалось умело. Получив место в Трансваальском музее, энергичный Брум немедленно принялся за то дело, которое в отличие от Дарта считал для себя основным. В начале 1936 года два ученика Дарта сообщили Бруму об интересных известковых пещерах близ фермы Штеркфонтейн. Громадные ямы с костями животных были известны здесь уже с конца XIX века, причем за 40 лет, видимо, немало окаменелостей было добыто шахтерами и сожжено в известковых печах. В своей книге Брум начинает рассказ о последующих событиях с темпераментного преувеличения: «Я пошел и нашел недостающее звено…» Вместе со студентами Шеперсом и Ле Ришем Брум пришел на каменоломню в воскресенье и спустился в прекрасные подземные коридоры с нависшими сталактитами. Рабочих не было, но Бруму удалось побеседовать с мистером Барлоу, присматривавшим за местом добычи. Барлоу сообщил ученым, что прежде работал в Таунгсе, и Брум спросил, не видел ли Барлоу здесь, в Штеркфонтейне, черепов, подобных тем, которые нашли в Таунгсе. Барлоу полагал, что он видел нечто подобное, потому что постоянно собирал кости и продавал их случайным посетителям. Через несколько дней Барлоу предложил Бруму нечто вроде окаменелой лапы тигра (предмет был слишком залеплен известью, чтобы разобрать точнее). Брум не поторопился приобрести кость, а к следующему разу она уже исчезла. Барлоу намекнул, что следует брать, пока дают, но затем смягчился и впредь обещал наблюдать и собирать. В пятницу 17 августа 1936 года Брум опять приехал, и Барлоу сразу протянул ему «прекрасную черепную крышку». «Это то, что вам надо?» — спросил он. Брум сразу догадался, что ему показывают останки высокоразвитой обезьяны или даже обезьяночеловека. Несколько часов он безуспешно пытался найти другие части черепа в каменоломне, но, когда отправился домой, внезапно в стороне от дороги наткнулся еще на один фрагмент древнего черепа. На следующий день охота возобновилась: Брум с несколькими помощниками — студентами и тремя туземными мальчиками сумел найти еще обломок черепа, а в следующие дни — неполную челюсть и зубы (в том числе один зуб мудрости!). Открытое существо было сходно с тем австралопитеком, которого опубликовал Дарт, но в то же время имело столь значительные отличия, что пришлось дать ему другое имя: плезиантроп трансваальский. На радостях Брум назвал одну из попутно найденных разновидностей саблезубого тигра ископаемым тигром Барлоу. Затем упаковал плезиантропа и отправился с ним в поездку по всему миру. Это было как раз тогда, когда Кенигсвальд добывал новых питекантропов, а Вейденрейх — синантропов. Все главные действующие лица встретились в 1937 году на антропологическом конгрессе в Филадельфии. Создавалось впечатление, что, подобно двум группам землекопов, антропологи прорывались в человеческое прошлое с разных сторон: со стороны человека (питекантроп, синантроп) и со стороны обезьяны (австралопитек, плезиантроп). «Встреча» двух разных групп означала бы в принципе переименование недостающего звена в достающее, добытое. Вернувшись в Южную Африку, Брум уже почти не выходил из пещер и каменоломен, но позже признавался, что первый череп, найденный 17 августа 1936 года, был много лучше, чем все многочисленные находки 1937 и начала 1938 года. Австралопитек Дарта, плезиантроп Брума и другие южноафриканские находки постепенно пополняли семейство австралопитековых. 8 июня 1938 года Барлоу, встретив Брума, сказал: «У меня есть для вас нечто приятное», — после чего достал часть верхней челюсти с первым коренным зубом. Брум воскликнул, что это действительно нечто замечательное, и одарил доброго вестника двумя фунтами стерлингов. Барлоу был в восторге, но почему-то после вопроса о том, где сделана находка, перевел разговор на другую тему. Брум, уже вполне овладевший местной дипломатией, сделал вид, что удовлетворен, и больше расспрашивать не стал. Дома, рассмотрев челюсть, он понял, что она принадлежала существу, тоже близкому к известным австралопитекам, но значительно больших размеров, чем обезьяны из Таунгса и Штеркфонтейна. Выбрав день, когда Барлоу не было в каменоломне, Брум внезапно появился там, небрежно достал челюсть из кармана и спросил туземных мальчиков, не попадалось ли тут нечто подобное. Мальчики ничего не знали, и отсюда Брум еще раз заключил, что челюсть найдена в другом месте. Лишь после этого ученый начал правильную осаду мистера Барлоу и продолжал ее до тех пор, пока не добился признания, что челюсть получена от некоего школьника по имени Герт Тербланш. Далее началась любопытная погоня ученого за учеником. Когда Брум появился в доме Тербланшей, мальчик был в школе, но мать и сестра объяснили, что «место» находится в полумиле от дома и что Герт захватил с собой в школу вырытые «на месте» «четыре великолепных зуба». Брум посадил девочку в машину, помчался «на место» и тут же за несколько минут отыскал несколько фрагментов черепа и пару зубов. Затем машина понеслась к школе, по дороге сломалась, и антрополог, добираясь пешком, к счастью, явился во время большой перемены. Герт Тербланш, быстро поняв, чего от него хочет Брум, «достал четыре самых замечательных зуба, когда-либо виданные в мировой истории». Ученый быстро приобрел зубы, примерил их к челюсти, полученной от Барлоу, и испытал огромную радость, так как все сошлось. Бруму очень нужен был мальчик для подробного разговора, но занятия кончались только через 2 часа, и тогда, к восторгу четырех учителей и 120 ребят, антрополог вместо оставшихся уроков прочитал импровизированный доклад о пещерах, каменоломнях, тайниках, ископаемых костях и тому подобных вещах, замечательных даже без того, чтобы ради них не отвечать уроки по двум предметам. Когда ученый кончил, время занятий истекло, и Герт повел целую армию на то место, где Брум уже успел побывать, открыл свой тайник и вытащил еще одну «прекрасную нижнюю челюсть с двумя зубами». За несколько дней на этом холме, близ фермы Кромдраа, Брум «собрал» почти целого, очень мощного австралопитека, похожего и одновременно сильно отличающегося от двух предыдущих. Ему было присвоено звание «парантроп робустус» («мощный»). Окончание «антроп» говорило о том, что Брум считал существо скорее человеком, чем обезьяной. Впрочем, в своей книге ученый извиняется и объявляет, что он не причастен к заглавию, под которым сообщение о находке появилось в «Иллюстрированных лондонских новостях». Заглавие было такое: «Недостающее звено более не является недостающим!» Затем последовали еще и еще открытия. Они уже теряли прелесть новизны, но каждое давало громадный материал для размышлений о судьбах рода человеческого. Брум и его помощник Робинсон, а затем снова Дарт, не усидевший в кабинете, каждый год добывали покрытые белым налетом окаменевшие кости, недвижимо пролежавшие тысячи веков, но неминуемо попавшие бы в известковую печь, если бы не missing link. Действие гениальной трилогии Фолкнера («Деревушка», «Город», «Особняк») происходит в одном из южных штатов, в вымышленном округе Йокнапатофа. Это труднопроизносимое название осталось от индейцев, владевших когда-то этими землями. Йокнапатофа звучит как индейский клич, похоже на «томагавк». В этом слове дикость, древность, воспоминание о другой цивилизации. В сочетании с Йокнапатофой странно звучат слова «губернатор», «банк», «шериф». Фолкнер, конечно, не случайно совместил столь разное. Это своеобразная символика — все переплелось, ничего не изменилось: современность, в которой снятие скальпа происходит без помощи лассо, томагавков, но такими куда более мощными видами оружия, как вексель, ипотека, судебное следствие, конституция. Странно переплелись с современными научными проблемами и звучные разноязычные названия Южной Африки. Залетное, британское — Таунгс. Тяжеловесные, староголландские — Штеркфонтейн, Сворткранс. Причудливые, негритянские — Кромдраа, Макапансгат… Три языковых слоя — память о двух завоеваниях, о той кровавой трагедии, которая продолжается в Южной Африке уже больше столетия, словно напрашиваясь на печальный эпилог той всемирной драмы, которая началась именно здесь в незапамятные века. Когда Дарт спустился в мрачные, извилистые коридоры пещеры Макапансгат, он обнаружил древние следы огня и решил, что открыл тех, кто сыграл для человечества роль Прометея, принесшего пламя. Найденные затем кости нового австралопитека дали повод для имени «австралопитек Прометен». Но в той же пещере Дарт нашел и сравнительно свежие кости — память об отчаянном, безнадежном 25-дневном сопротивлении восставших туземцев против армии Трансвааля в XIX веке. Смешение звериного и цивилизованного, новейшей науки со старейшими предрассудками, Йокнапатофы с холодильниками и пулеметами — все это присутствует при знакомстве с великими южноафриканскими антропологическими открытиями. Подобные противоречия причудливо сочетались, например, в ныне покойном Роберте Бруме. Я не могу судить с достаточной полнотой о взглядах этого человека, но все же располагаю его собственными трудами и воспоминаниями современников. Может быть, и среди читателей этой книги найдутся те, кто предполагает, будто ученые делятся на твердокаменных дарвинистов и кровожадных расистов. Как все было бы просто и понятно, если бы научный мир состоял только из этих двух племен! Но мир, к сожалению, или, наоборот, к счастью, устроен чрезвычайно сложно. Кроме двух полюсов, «братство всех, независимо от цвета кожи» и «бей, режь, не допускай другой цвет!» — кроме двух полюсов, есть и такие географические широты: — Ах, я понимаю, нужно равенство, но все же я не люблю этих черномазых! — Ну ладно, а выдал бы ты свою дочь за негра? — Вы знаете, в конце концов эти цветные сами во многом виноваты… Доктор Роберт Брум был, очевидно, куда тоньше, умнее и, может быть, лучше всех перечисленных. «Гениальный ученый Южной Африки, оригинальный ум, всегда готовый к полемике», — вот как отзывается о Бруме другой замечательный ученый, Ральф Кенигсвальд. Сам Роберт Брум с улыбкой рассказывает, например, следующий эпизод: в мае 1947 года в уже известном «месторождении» Штеркфонтейн он сделал замечательное и эффектное открытие — целый череп австралопитека, расколотый надвое, так что каждая половинка была вкраплена в известковую стену и можно было, не трогая находки, заглянуть в мозговую полость, обрамленную маленькими известковыми кристаллами. «Я видел много занятного в моей долгой жизни, — пишет Брум, — но это было самым потрясающим моим наблюдением». Открытие описали газеты, а через несколько дней в каменоломню явился пастор и вступил в беседу с Даниэлем, туземным помощником Брума. Пастор спросил, правда ли, что найден целый череп. Даниэль ответил: «О да, я могу показать фотографии». Пастор рассмотрел фото и сказал, что все равно не верит в ископаемую обезьяну, близкую к человеку. «Я боюсь, — пишет Брум, — что мнение Даниэля об этом пасторе было не слишком высоким». Ученый поясняет при этом, что Даниэль около двадцати лет служил в Трансваальском музее, сделал массу находок в пещерах и как охотник за окаменелостями «ценился на вес золота». Все эти разумные высказывания и положительные черты ученого, однако, благополучно соседствовали с иными. Кажется странным, как такой крупный специалист может сочувственно цитировать размышления Уоллеса (1869 год) о загадочности происхождения человека, подтверждаемой тем, что, например, андаманцы и австралийцы по соображению не намного выше обезьян, а по физической структуре и объему мозга мало отличаются от цивилизованных людей. Я убежден, что Бруму ничего не стоило привести тысячи фактов, доказывающих невероятно сложное, очень высокое, неизмеримо далекое от обезьян мышление и поведение самых отсталых племен. Их язык, охотничьи навыки, своеобразное искусство — разве не достаточно только этого? Если же Брум хотел сказать о том, что у людей с разными умственными способностями все же одинаково сложное строение тела и мозга, то, чем сравнивать белых с андаманцами, не лучше ли сопоставить глупого белого с умным белым, гениального негра с тупым негром, талантливого австралийца с бездарным?.. То, что позволено обывателю, не позволено специалисту. Обыватель не знает и не хочет знать. Специалист знает и хочет или не хочет помнить. Скрытая глубоко в душе «опухоль расизма» выходит наружу, дает метастазы. Но пора вернуться к южноафриканским известковым пещерам. Был период, 10–20 лет назад, когда австралопитеки находились, можно сказать, в расцвете. Брум, Дарт, затем их молодые последователи — Робинсон, Тобайяс, — каждый год разыскивали все новых и новых представителей этой интереснейшей группы. Вскоре их число перевалило за 100 и было разделено на пять, может быть, шесть видов (от маленьких «бэби из Таунгса» до мощных парантропов).   Парантроп После синантропа в одном географическом районе никогда не открывали сразу так много «предков». Акции их, как представителей missing link, стояли высоко: по вычислениям самих первооткрывателей, их австралопитеки жили миллион лет назад даже раньше, то есть задолго до питекантропов. Мозг первых южноафриканцев исчислялся объемом в 600–800 кубических сантиметров: больше, чем у обезьян, и довольно близко к питекантропам. Затем Дарт сообщил о пепле, древнем костре австралопитека Прометея. Наконец, в научной печати появились замечательные фотографии: все тот же постаревший, но неугомонный Раймонд Дарт сделал в Макапансгате целую серию находок. Главной сенсацией были черепа павианов, пробитые мощным ударом в левый висок. Не надо было обладать криминалистическими дарованиями, чтобы понять: обезьяны встречали смерть, кидаясь на преследующего врага, и получали смертельный удар слева, то есть, очевидно, нанесенный правой рукой нападавшего. Разящая рука доказывала, что преследователь мчался на двух ногах; бедра и другие кости также неоднократно подтверждали двуногость австралопитеков. Но что же было в правой руке разящего Прометея? Дарт собрал, сосчитал, измерил сотни костей, находившихся в пещере, и пришел к смелому выводу: концы некоторых бычьих костей сплющены. К тому же пролом в виске павиана удивительно точно совпадал с «ударной площадкой» лежавшей рядом кости. Не мудрено было разволноваться: культурой кости, зуба и рога назвал Дарт цивилизацию австралопитеков. Получалось, что в глубокой древности здесь, в пустынях и полупустынях Южной Африки, умные человекообразные обезьяны, испытывая нужду и голод, лишившись спасительных деревьев, не имея достаточно сильных клыков и когтей, в ужасе встали на задние лапы, схватили в передние «первые попавшиеся предметы», каковыми, естественно, могли стать кости съеденных животных, и пошли в люди. Поскольку антилопу, быка, гиену может поймать и одолеть только группа австралопитеков, мы уверены, что у них были стаи, сообщества, зародыш человеческого общества. И уж можно вообразить, как они несутся с длинными костями в руках по унылым африканским равнинам, окружая павианов. Но прошло немного времени, и отличная теория Дарта несколько поколебалась и дала трещины под интенсивным огнем критики и сомнений. Насчет орудий и огня возникло сначала недоверие умозрительное: слишком уж обезьяны эти австралопитеки, чтобы быть человеком, австралоантропом. Брум считал, что пепел в пещере — след степного пожара, другие специалисты находили, что кости антилоп и других крупных животных вряд ли могли быть объедками со стола австралопитеков и скорее напоминали остатки пиршества гиен или других хищников. Не появлялась ли голодная умная обезьяна, чтобы доедать за хищниками; кстати, изучение австралопитековых зубов все больше говорило об их пристрастии к растительной пище. Авторитет «южных обезьян» подрывался с разных сторон. Точные расчеты, сделанные по многим черепам, отбросили гипотезу о большом мозге. 520 кубических сантиметров — вот каков средний его объем (от 335 до 600). Это не больше, чем у гориллы, хотя следует учитывать, что австралопитеки много мельче, и, значит, относительно веса тела они были мозговитее современных человекообразных обезьян. В 1949 году помощник Брума Робинсон вел успешные раскопки в уже известной несколькими находками пещере Сворткранс, добывая черепа и челюсти крупных парантропов. Внезапно в одном из «гнезд» была замечена челюсть, несравненно более человеческая, чем все, что находили до сих пор. По всем признакам это был уже примитивный человек, по зубам и размерам мозга соответствовавший питекантропу. «Телантроп капский Брума и Робинсона» — так был наименован этот новый член почетной семьи ранних людей. Появившись, он сразу вызвал новые мысли: судя по всему, жил он в одно время с австралопитеками, и обилие в той же пещере австралопитековых костей, возможно, было результатом завтраков, обедов, полдников и ужинов африканского питекантропа. К этому времени древность австралопитеков, первоначально казавшаяся очень большой, сильно уменьшилась. Подсчитав кости диких животных, сопровождавших австралопитеков, специалисты вычислили, что самым древним двуногим обезьянам из Штеркфонтейна не более миллиона лет, а самым молодым (Кромдраа) не менее пятисот тысяч. 500 тысяч— миллион лет, время австралопитеков. Но это и время их цивилизованного современника, телантропа. Это и время яванских питекантропов! И тогда-то стала обозначаться иная панорама человеческой истории. Если австралопитеки и питекантропы жили в одно и то же время, то, вероятно, вторые не могли произойти от первых. Мудрый питекантроп был страшен и непобедим для австралопитека, даже двуногого и взявшего в руку кость. «Австралопитек — плохой ученик. Он застрял на школьной скамье жизни», — пишет Кенигсвальд. Но стремление, пусть несбывшееся, австралопитеков к очеловечиванию, несомненно, было. Если б им не помешали, то сейчас, в наши дни, они, возможно, достигли б неандертальского уровня. А впрочем, могли бы и не достигнуть. Специализированные зубы австралопитека — не тут ли таилась погибель его? Специализация чревата удобством и смертью. Так или иначе, но на вопрос о недостающем звене, как видим, даже сотня австралопитеков сообща не смогла ответить. Недостающее звено не южноафриканские австралопитеки. Оно было прежде, раньше: некий таинственный «икс-питек» где-то и когда-то превратился в «игрек-антропа». Должно быть, авсгралопитеки нашли свой конец в Южной Африке, потому что это тупик и дальше, кроме как в два океана, деться некуда. Кенигсвальд пишет о последних австралопитеках: «Эмигранты с низким лбом и большими зубами, они должны были принимать питекантропа за гения, а синантропа за сверхчеловека». Но попасть в южноафриканский тупик они мотли только из Центральной и Восточной Африки. Значит, главные события, происходившие раньше миллиона лет назад, пролог всей нашей истории — истории недостающего звена — следовало искать не в каменоломнях и пещерах юга, а в центре, на экваториальном поясе Черного материка. Идя вверх по течению австралопитековой трагедии, наука приближалась к заглавию и первым сценам гигантского драматического цикла, именуемого в просторечии человеческой историей. ГЛАВА ВОСЬМАЯЛЮДИ ИЛИ ЖИВОТНЫЕ? Роман с таким названием, написанный французским писателем Веркором, начинается со следующего эпиграфа: «Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой, каким они хотят его видеть». Разумеется, Веркора занимала не научная, а моральная, социально-политическая проблема. И в самом деле, как только спрошено: «Что есть человек?» — попробуйте остаться строго в рамках науки. Во время поисков «снежного человека» возник серьезный вопрос: человек ли он (если существует!). Можно ли его убить или за это — суд присяжных? Распространяется ли на него суверенитет ООН и тому подобное? Много рассуждалось о важности этого определения при столкновении с космическими цивилизациями. Важно определить человека для уяснения философских проблем кибернетики («человек и мыслящая машина»). Впрочем, сомневающимся в, актуальности казуистически точного определения человека можно предложить такой, например, документ: Газета «Манчестер гардиан», 9 сентября 1931 года: «Профессор Томсон должен был ответить на некоторые необычные вопросы на конференции современных церковников в Оксфорде. Некий мистер Уоррен спросил: «Должен ли я любить любого ближнего, даже дикаря? А если и дикаря, то почему не гориллу? А если и гориллу, то почему не овцу или креветку? Но я ем овцу и креветок! На какой стадии мой ближний станет существом столь высокого порядка, что я не должен буду убивать и есть его?» На это профессор ответил при всеобщем смехе, что мистер Уоррен должен прекратить еду, когда поданный к столу объект окажет сопротивление». Определение — что такое человек? — покажет, насколько мы, повинуясь призыву древних философов, познали самих себя. (Впрочем, говорят, существует формально-юридическое возражение против всякого определения человека, поскольку оно делается человеком же, то есть «пристрастно и необъективно».) В романе Веркора суду присяжных нужно определить, является ли убийство «тропи», обезьяночеловека, убийством человека или убийством животного. Оказалось, что у каждого члена комиссии имеется по этому вопросу своя более или менее твердая точка зрения, каковая и отстаивалась ими с пеной у рта. Старейшина, которого попросили высказаться первым, заявил, что, по его мнению, лучшее из возможных определений уже дано Уэсли. Подлинное различие, по словам Уэсли, заключается в том, что люди созданы, дабы познать бога, а животные не способны его познать. Затем слова попросила маленькая седая квакерша с детскими глазами, робко смотревшими из-за толстых стекол очков; тихим, дрожащим голосом она пролепетала, что ей не совсем понятно, как можно узнать, что творится в сердце собаки или шимпанзе, и как можно с такой уверенностью утверждать, что они по-своему не познают бога. — Но помилуйте! — запротестовал старейшина. — Тут нет никаких сомнений! Это же совершенно очевидно! Но маленькая квакерша возразила, что утверждать — еще не значит доказать. Другой член комиссии, застенчивый на вид мужчина, негромко добавил, что было бы по меньшей мере неосторожно отрицать, что у дикарей-идолопоклонников есть Разум: они просто плохо им распоряжаются; их можно сравнить, сказал он, с банкиром, который доходит до банкротства, потому что плохо распоряжается своим капиталом. И все-таки этот банкир финансист, и финансист куда лучший, нежели любой простой смертный. «Мне кажется, — закончил он, — что, напротив, необходимо исходить именно из того положения: «Человек — животное, наделенное Разумом». — А где же, по-вашему, начинается Разум? — иронически осведомился изящный джентльмен в безукоризненно накрахмаленных воротничке и манжетах. — Это как раз нам и следует определить, — ответил робкий господин. Но старейшина заявил, что, если только комиссия намеревается дать такое определение Человеку, в котором будет отсутствовать идея бога, он в силу своих религиозных убеждений не сможет принимать дальнейшего участия в ее работе. Высокий плотный мужчина с роскошными белыми усами, отставной полковник, служивший когда-то в колониальных войсках в Индии и прославившийся своими многочисленными любовными историями, сказал, что его мысль на первый взгляд может показаться присутствующим несколько парадоксальной, но, наблюдая в течение многих лет людей и животных, он пришел к выводу, что есть нечто такое, что свойственно одному лишь человеку: половые извращения. Но один из присутствующих джентльменов, фермер из Хемпшира, к сожалению, должен сообщить уважаемому полковнику Стренгу, что однополая любовь нередко встречается у уток, как среди самцов, так и среди самок. Маленькая дама: Человек — единственное в мире животное, способное на бескорыстные поступки. Другими словами, доброта и милосердие присущи лишь Человеку, только ему одному. Старейшина не без сарказма осведомился, на чем основывается ее утверждение о неспособности животных на бескорыстные поступки: разве не она сама только что пыталась доказать, что, возможно, они также познают бога? Джентльмен-фермер добавил, что его собственная собака погибла во время пожара, бросившись в огонь спасать ребенка. Взяв слово, джентльмен в накрахмаленных манжетах заявил, что его лично очень мало волнует, будет или нет дано определение Человеку. Вот уже пятьсот тысяч лет, сказал он, люди прекрасно обходятся без таких определений, или, вернее, они не раз уже создавали концепции о сущности Человека, концепции, правда, недолговечные, но весьма полезные для данной эпохи и данной цивилизации. Пусть же действуют так и впредь. Лишь одно имеет значение, заключил он: следы исчезнувших цивилизаций, иными словами, Искусство. Вот что определяет Человека, от кроманьонца до наших дней. Джентльмен-фермер спросил у своего коллеги, может ли тот дать точное определение Искусству. Коль скоро, по его мнению, Искусство определяет Человека, надо раньше определить, что такое Искусство. Джентльмен в манжетах ответил, что Искусство не нуждается ни в каких определениях, ибо оно единственное в своем роде проявление, распознаваемое каждым с первого взгляда. Джентльмен-фермер возразил, что в таком случае и Человек не нуждается в особом определении, ибо он тоже принадлежит к единственному в своем роде биологическому виду, распознаваемому каждым с первого взгляда. Джентльмен в накрахмаленных манжетах ответил, что как раз об этом он и говорил. Тут сэр Кеннет Саммер напомнил присутствующим, что комиссия собралась не для того, чтобы установить, что Человек не нуждается в особом определении, а для того, чтобы попытаться найти это определение. Он отметил, что первое заседание, возможно, и не принесло ощутимых результатов, но тем не менее позволило сопоставить весьма интересные точки зрения. На этом заседание закрылось». Книга «Люди или животные?» цитируется здесь столь обильно потому, что, издеваясь, Веркор тем не менее исходит из действительно происходивших и происходящих дебатов «человека о человеке». Как известно, дело кончилось необычайно гибким определением: «Человека отличает от животного наличие религиозного духа…» Веркор, разумеется, знал о важных определениях, сделанных в XVIII и XIX столетиях, но они нарушили бы его замысел. А между тем: «Человек — животное, создающее орудия труда» (Вениамин Франклин). Эта формула хороша, но не претендует, однако, на слишком большую строгость: орудия и средства труда есть и у животных. Такова плотина у бобров, ветка, которою обмахивается слон; сравнительно легко учатся манипулировать предметами и обезьяны, например доставать палкой дольку апельсина, спрятанную в узкой металлической трубе. Обезьяна, которой предлагают толстую палку и узкую железную трубу с апельсином внутри, довольно быстро догадывается, что палку надо утоньшить, и изготовляет орудие. Тогда определим: «Человек — это животное, постоянно изготовляющее одно орудие при посредстве других орудий». В опытах московского ученого Г. Ф. Хрустова шимпанзе не смог догадаться, что твердый деревянный диск можно разбить с помощью предложенного ему острого камня, рубила. А разрубить диск ему очень хотелось: тогда можно было бы одной из щепок добыть из трубы дольку апельсина. Обезьяна не догадалась, хотя, подражая, способна делать чудеса (сообщают, будто австралийский фермер научил обезьяну трактор водить). Но последнее определение человека уже вызывает мысль: «Не слишком ли узкое?» С древнейших времен мы знаем: одни каменные орудия изготовлялись при помощи других. До синантропов, даже до питекантропов, с таким определением мы «дотянем». А еще раньше? Если перед нами обезьяна, постоянно изготовляющая орудия, скажем, из кости (австралопитек по Дарту) или пользующаяся природным суком, камнем, но не стремящаяся к его усовершенствованию, — кто же она? Снова проблема недостающего звена: «раньше питекантропа и позже обезьяны». Конечно, тут настало время улыбнуться над стремлением определить человека слишком точно и обязательно по одному признаку. «В конце концов, если он обезьяна, — воскликнул один «человеко-вед», — то единственная из всех, которая обсуждает, какой именно обезьяной он является». Английский философ Барнетт писал, что для греков человек — это мыслящее существо, для христиан — существо с бессмертной душой, для современных ученых — животное, которое производит орудия, для психолога — животное, употребляющее язык и которому свойственно «чувство высшей ответственности», для эволюции же человек — это млекопитающее с громадным мозгом… Но, жонглируя одним или сотней признаков, мы все равно никак не отделаемся от задачи. Сегодня мы можем четко определить: шимпанзе, оранг, горилла, дриопитек, Проконсул — вот обезьяны… Человек разумный, то есть мы с вами, неандертальцы, синантропы, питекантропы — вот люди (среди них, как видим, также и обезьянолюди; нет-нет да и раздаются голоса, что они вроде бы и не люди). Но уже с австралопитеками трудно. С недостающим звеном еще труднее. Несколько лет назад было предложено считать человеком человекообразное существо с объемом мозга не меньше 800 кубических сантиметров. «800» объявили своего рода «мозговым рубиконом», ниже которого — обезьяна, выше — человек. Рубикон установлен произвольно, просто потому, что у всех известных взрослых антропов объем мозга был выше этого числа, а у всех знакомых питеков ниже. Но кто мог предвидеть сюрпризы завтрашнего дня? Олдувэйское ущелье в Танганьике сегодня не менее знаменитый кладезь древностей, чем берега яванской реки Соло или пещера Чжоу-Коу-Дянь. Дорога к нему ведет по высоким экваториальным травам восточноафриканской степи Серенгети, и спутником каждого, кто пустится в путь, будут тысячи антилоп, жирафов, зебр и львов. (В этих краях раскинулся великий восточноафриканский заповедник и охота запрещена). В засушливые месяцы животные движутся к поднимающемуся над степью величайшему на земле двадцатикилометровому кратеру Нгоронгоро, внутри которого находится никогда не пересыхающее озеро. Кратер загадочен. Его размер заставляет размышлять о гигантском космическом теле, может быть, когда-то врезавшемся в нашу планету. Древняя тайна словно сопровождает и реку Олдувэй, вырывшую себе за миллионы лет глубокое, низкое ложе, так что, следуя за потоком, путник оказывается вдруг в узком высоком ущелье, и стометровые обрывы обступают его, а львы и жирафы с любопытством его разглядывают. Немецкий вулканолог Рек еще до первой мировой войны оценил эти речные обрывы как богатейший клад окаменелостей и извлек оттуда сначала ископаемых носорогов, затем вымерших гигантских жирафов и напоследок в очень древнем слое обнаружил скелет человека, причем, на удивление, человека вполне современного типа (позже выяснилось, что человека похоронили почти на самом верху 8–10 тысяч лет назад, но постепенно он опустился вместе с пластом). С 1931 года постоянным посетителем Олдувэйской долины стал Луис Лики. Англичанин, родившийся в Кении, он возглавил музей в Найроби и принялся за ископаемых людей, обезьян и зверей Восточной Африки. И как только принялся, начались открытия: ископаемый человек в Канаме, два так называемых каньерских черепа, знаменитая древняя человекообразная обезьяна Проконсул… Ученый мир за несколько десятилетий привык к тому, что неутомимый Луис Лики вместе с Мэри Лики, женой и коллегой, сделался регулярным поставщиком важных окаменелостей. Роберт Брум, лучший охотник за австралопитеками, писал о потрясающей интуиции Лики при открытии ископаемых млекопитающих и людей. Рассказывают, что однажды Лики пригласил в свою экспедицию первооткрывателя олдувэйских древностей доктора Река и заключил с ним пари: меньше чем за 24 часа после прибытия на место найдется древнее каменное орудие. Ровно через 6 часов после начала поисков он протянул Реку примитивное ручное рубило. Чем больше ездил Луис Лики по великой степи, вдоль кратеров и озер Восточной Африки, тем больше он убеждался в громадной древности человека: прежде Лики думал, что первые люди жили не ранее чем 100 тысяч лет назад, но позже он совершенно изменил свое мнение и стал склоняться к сотням тысяч и даже к миллионам лет. Исследователь, разумеется, не ограничивался одним местом раскопок, но все-таки больше всего ожидал от Олдувэя. И вот уже четыре десятилетия с незыблемым постоянством он ведет здесь осаду. Многие крупные специалисты побывали за эти годы в мрачной долине, но, кажется, никто не усомнился, что тут будут сделаны со временем исключительные находки: отовсюду торчат ископаемые кости, появляясь после каждого дождя, из земли буквально выпадают грубые каменные орудия, и если еще не встретились драгоценные ископаемые черепа, то было ясно — они вот-вот покажутся. Но они упорно не появлялись. Шли годы, десятилетня, нашлось более 75 вымерших видов, но не было еще ни одной находки на уровне великих азиатских и южноафриканских открытий. Высоченные обрывы словно испытывали терпение крохотного существа, пытавшегося за краткий исторический миг открыть их тайну.  Олдувей Лики хорошо знал, что такое наша эпоха «с точки зрения» этих обрывов, потому что полно и внимательно прочитал их историю. В истории этой было пять больших глав. На самом верху, который плохо различим со дна ущелья, под травой, которую колышут ветры XX столетия, расположился пятый, последний слой: в нем вся новейшая, новая, средневековая и древняя (в пределах нескольких тысячелетий) история Африки: кости современных зверей, бродивших некогда чуть ниже, тонкие переходы одного пласта в другой, рассказывающие о смягчении и ожесточении климата, о вековых, медленных движениях бытия… Ниже — четвертый слой, мощная сорокаметровая толща, древнейшая Африка. В нем спрессованы сотни веков, населенных ранними людьми нашего типа. Памятником бесконечной борьбы за существование остались груды костей, среди которых попадаются уже вымершие виды, тут же множество каменных ножевидных орудий, которыми древние африканцы поражали и разделывали зверя. Еще ближе ко дну ущелья — третий слой. На камнях его следы древних ветров, которые бушевали на этих широтах. Климат в ту пору менялся, животные обитатели этого края тоже, но кости их еще похожи на современные, хотя и отделены сотней-другой тысячелетий. Двигаясь от эпилога к началу олдувэйской книги, читатель попадает в длинную вторую главу (второй слой). Его толщина от 15 до 27 метров. Лики извлек отсюда много костей ископаемых слонов и не меньше человеческих орудий: знакомых любому археологу примитивных ручных рубил. Впервые такие орудия были найдены во Франции и долго считались памятниками самых древних человеческих культур. По названию мест, где были сделаны находки, это культура Шелль и более поздняя культура Ашель. Во Франции вместе с подобными рубилами не нашли костей человека, но, вероятней всего, рубила изготовлены руками питекантропов, близких к ним гейдельбергских людей и первых неандертальцев. Второй слой — время питекантропов. Отдельные страницы главы образно повествуют о том, что климат становился то суше, то влажнее. Песчаный след — древняя река или озеро. Чуть выше другие породы: река и озеро высохли. И вот уже подножье, нижний слой, первая глава олдувэйских обрывов. У самого дна долины — «переплет книги» — мощная подкладка из базальта, память о чудовищных извержениях и катаклизмах, порожденных дремлющими сейчас вулканами. Чтобы рассмотреть первый слой, кое-где и копать не надо: он сам выходит на борт обрыва и до него можно рукой дотянуться. От 5,5 до 30 метров его толщина. На большом пространстве видны отложения древнего озера, некогда плескавшегося здесь. В том месте, где древнейшие озерные отложения соседствуют с «ископаемым берегом», особенно много костей. Озеро притягивало животных, так как кругом было не менее жарко и сухо, чем теперь. У воды многие гибли — от хищников, от стихии, от старости: кости давно вымерших примитивных свиней, носорогов, слонов… Попадалось почему-то немало очень крупных, порою гигантских животных. Ископаемый павиан, открытый Лики, был, например, вдвое больше современного. Из первого слоя Лики выкапывал отщепы кварцита и базальта, на них видны следы спиливания, ими пользовались. Интереснейшие находки первого слоя — гальки, крупные озерные гальки с режущим ребром. Не было сомнения, что их держала рука, управляемая уже не обезьяньим мозгом. Но в то же время столь примитивной человеческой цивилизации нигде еще не видели (Лики дал ей название — «олдованская цивилизация»). Питекантропы и синантропы с их ручными рубилами по сравнению с олдованцами все равно что люди с электричеством и паром против средневековых ремесленников. Первый слой был, без сомнения, самым важным, самым загадочным. За ним скрывалось время, на сотни тысячелетий предшествовавшее питекантропу. Это могли быть века недостающего звена. Но та рука, что держала озерные гальки, и тот череп, что управлял той рукой, все прятались за крутыми откосами. Таково Олдувэйское ущелье. Иногда с уходящего ввысь обрыва заглядывают вниз любопытные жирафы и львы. Где им знать, что через сотни тысячелетий их окаменевшие кости будут вымыты дождем из чуть выросшего обрыва и другие звери будут с любопытством заглядывать в ущелье, чуть более глубокое, чем теперь. Итак, раскопки в первом слое — это странствия ученого по давней неведомой планете, охота за черепами древнейших обитателей. На 29-м году странствий, 17 июня 1959 года, Мэри Лики смогла поднести мужу лучший из всех мыслимых подарков — часть окаменевшего лица и зубы из первого слоя! Череп — с первого взгляда было ясно — принадлежал австралопитеку, очень примитивному, но все же с некоторыми человеческими чертами. Он лежал на берегу «ископаемого озера», неподалеку от базальтового дна Олдувэйского ущелья: что-то привело существо к воде в последнюю минуту жизни. Из-за зубов, приспособленных к щелканью орехов, и остатков скорлупы (их нашли рядом) существо назвали ласково и весело — щелкунчиком. Щелкунчик сразу вызвал у Лики громадное уважение, не только за то, что он такой древний и что прежде австралопитеков находили только на самом юге Африки, а теперь обнаружили на экваторе. Самое замечательное: рядом с костями, в несомненном, тесном соседстве с ними, лежали те самые примитивнейшие каменные орудия, гальки с оббитым концом, которых и прежде находили в избытке, но не знали хозяина. Примитивный гориллообразный, чуть-чуть человеческий череп щелкунчика с небольшим обезьяньим объемом (около 500 кубических сантиметров) и притом каменные орудия — первый признак человека! «Зиндж», старинное арабское название Восточной Африки, Лики соединил для щелкунчика с почетным греческим — «антроп». Зинджантроп Мэри и Луиса Лики, архипримитивнейший человек! «Если бы не орудия, обезьяна обезьяной!» — вздыхали лучшие специалисты. Более примитивным человеком быть невозможно. Если это не missing link, то что же такое missing link? Вскоре лаборатория Калифорнийского университета получила от Лики семь образцов породы из нижней части первого слоя, то есть из района зинджантропа. Применили калиево-аргоновый метод, и результаты оказались не менее поразительными, чем невиданное прежде соединение обезьяньего черепа с человеческими орудиями: от- 1610 тысяч лет до 1890 тысяч лет. Среднее число, которое следовало считать примерным возрастом зинджантропа, — 1750 тысяч лет: втрое древнее питекантропа, в 30–40 раз древнее первых людей современного типа. 1750 тысяч… Прежде любой антрополог был готов поручиться, что «звена недоставало» примерно миллион лет назад. Теперь человеческая история на глазах удваивалась. Зинджантроп совершил почетную экскурсию по главным научным центрам, подобно славной молодежи — австралопитекам Дарта и Брума, питекантропам Дюбуа и Кенигсвальда. Прошло несколько месяцев, и в 1960 году супруги Лики, их помощник, уже упоминавшийся раньше ученик Дарта Филипп Тобайяс и еще несколько человек снова потревожили бесчисленных обитателей степей Серенгети, великого кратера Нгоронгоро и мрачного олдувэйского каньона. Снова из-под ног и лопат сыпались тысячелетия, влажные и засушливые, века ископаемых слонов, саблезубых тигров, гигантских павианов, а также оббитых галек (исчезнувших, если чуть подняться по обрыву, вследствие великой технической революции, породившей универсальный каменный треугольник — ручное рубило!). Внезапно из второго слоя появился знакомый. «Бедный Йорик!» — мог бы воскликнуть англичанин вслед за Гамлетом. Это был, бесспорно, знакомый образ, встреча с которым не могла не вызвать эмоций и воспоминаний, — питекантроп, сопровождаемый каменными рубилами и ископаемым зверьем. Времена менялись: питекантроп, с его мозгом, походкой и рубилом, выглядел по сравнению с архаическим зинджантропом внушительно и культурно. Все шло по правилам: первый слой — Зинджантроп, метров, на 30 выше его и лет на миллион моложе— питекантроп. Но тут из земли показался еще некто, и снова, в который раз, романтическая наука антропология оказалась во власти счастливого. случая, регулярно снабжающего или лишающего ее великолепных гипотез, догадок и даже теории. Из того самого места (лишь на 60 сантиметров ниже), где в прошлом году выглянул зинджантроп, вышел великолепный человек. Обломок его черепа, кусок нижней челюсти и кисть руки свидетельствовали о ряде выдающихся качеств этой личности. Личность была сравнительно молода, но обладала цепкими пальцами, способными взяться за человеческую работу. Череп же оказался столь примечательным, что если бы Лики не нашел вскоре еще одно такое же существо, представленное костями ключицы и стопы — добротной стопы двуногого ходока, — то научный мир разъярился бы. Затем появлялись еще и еще такие же ископаемые существа — люди «образца 1960 года». Из пяти персон одна (первая) нашлась, как уже говорилось, рядом с зинджантропом. Две другие оказались ниже, то есть древнее; еще две — повыше, так что одна забралась почти во второй слой, к питекантропу. Все пятеро существ, живших примерно в одно время и в одном месте с зинджантропом, были совсем не зинджантропы. Мозг много больше: 685 кубических сантиметров. До питекантропа, правда, этой голове еще расти и расти, но все-таки уже не 500 (как у зинджантропа). У крупного самца гориллы мозг иногда достигает 700 (и однажды даже 752) кубических сантиметров, но зато такой стопы и пальцев у обезьяны быть не может. Лики назвал человека «презинджантропом», но потом остановился на более почетном — «Homo habilis», «Человек умелый» (конечно, подразумеваются прежде всего умелые пальцы!). Homo habilis — вот чьим орудием были гальки с оббитым краем. Зинджантроп имеет к ним не больше отношения, чем, например, мартышка к револьверу, случайно найденному вместе с ней. На маленькой площадке у берега озера, чуть большей одного квадратного метра, Лики нашел девять орудий «умельца». Судя по всему, площадка была местом, где кормились два-три человека. Орудия казались брошенными после мимолетного использования (питекантроп этого уже не делал и свое рубило берег). Вооруженный прибрежной галькой, сидел habilis на берегу и потрошил молодого зинджантропа, ничуть не смущаясь, что и тот — человекообразный и прогрессивный. Один ел, другого съели — оба после смерти оказались рядом, обоих нашли, но сначала съеденного — и решили, что в нем вся суть. Побывав год в высоких чинах, зинджантроп был затем в ранге сильно понижен. Homo habilis по всем статьям человек, но еще неизвестного прежде типа, примитивнее всех известных.  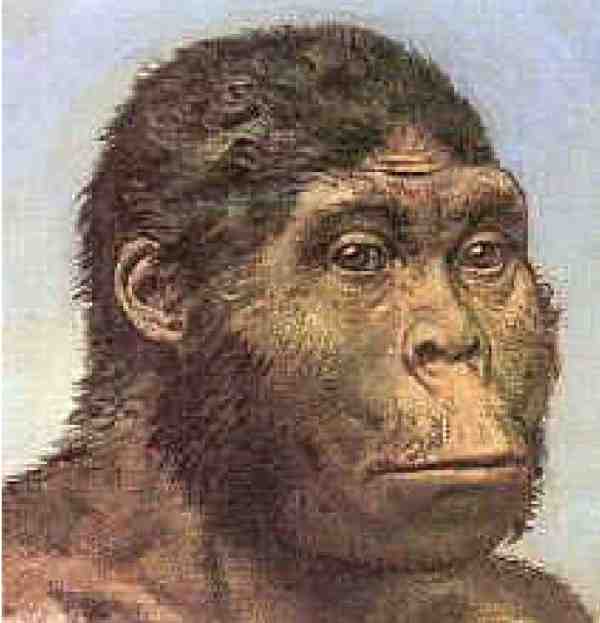 Homo habilis Зинджантроп по всем статьям австралопитек, обезьяна. Но коли они современники, значит, человеку, умелому тоже 1750 тысяч лет, а то и более! Вот в это никак не верилось. Питекантроп из второго слоя оказался 360 000-летним: более или менее нормально, хотя все же почти вдвое моложе, чем яванские однофамильцы. Но что делал habilis целых 1400 тысяч лет? Превратиться за 14 тысяч веков только в питекантропа — конечно, хорошая, но все же слишком медленная работа. Одним из скептиков был Ральф Кенигсвальд. У профессора Оклея хранился образец базальта, который он захватил во время посещения Олдувэйского ущелья еще в 1947 году. Кенигсвальд занял этот кусочек и в 1961 году попросил измерить его возраст в Гейдельбергской лаборатории Института ядерной физики. Результат был для Лики не очень-то приятен: 1300 тысяч лет (± 100 тысяч лет). Получалось, что базальт, лежащий у подножья обрыва, много моложе более высокого первого слоя. Точность и правильность заключений Лики тем самым подвергалась сомнению. Зато дата 1 миллион — 1300 тысяч лет казалась все-таки не столь фантастической, как прежняя. Гейдельбергские результаты как будто совпадали и с подсчетами возраста костей тех животных, которые сопровождали habilis'а. 30–40 процентов современных ему видов дожили до наших времен, в то время как «полагалось бы» дожить лишь 10 процентам (если в самом деле действие происходило 1750 тысяч лет назад), Но Лики не собирался так легко уступить полмиллиона лет. Он снова отправил образцы в Калифорнийскую лабораторию, на этот раз два куска базальта из подножья. Были применены новейшие, самые совершенные методы анализа. Первый образец базальта подтвердил «фантастический» возраст презинджантропа; базальт имел 1700 тысяч (±200 тысяч) лет от роду. Второй кусок сначала всех поразил, заявив о возрасте в 4 миллиона, но затем результат проверили и установили истину: 1800 тысяч лет. Внимательно исследовав тот кусочек, который экзаменовался в Гейдельберге, нашли на нем сильные следы выветривания: он находился дольше других на поверхности. Вероятно, Оклей взял образец, относившийся не ко дну ущелья (отчего и получился меньший возраст). Более тщательное изучение окаменелых животных костей из первого слоя тоже позволило перевести их на несколько тысяч веков в прошлое. Так Homo habilis был оправдан. Попутно новая проверка возраста олдувэйского питекантропа довела и его до более приличной даты — 490 тысяч лет назад, что уже вполне соответствовало «яванскому календарю» (550–600 тысяч лет). Случалось и прежде, что историк, археолог открывал целую цивилизацию: до 80-х годов XIX века никто и не подозревал, например, о многовековом царстве хеттов в Малой Азии; открытие древних культур Мохенджо-Даро и Хараппы почти удвоило известную историю Индии. Но все это обретенные века, от силы тысячелетия в истории отдельных частей планеты. Лики же щедро дарит всему человечеству лишний миллион. К сожалению, прошедший, растраченный. Самая глубоководная впадина в океане человеческой истории обнаружена пока в Восточной Африке. Трудно писать и судить об открытии, которое продолжается и будет продолжаться и которое еще не опубликовано полностью. На антропологический конгресс в Москву приезжал в 1964 году сотрудник Лики Тобайяс, сообщивший, что в Олдувэе уже выкопано 16 ископаемых гоминид (то есть людей и высокоразвитых обезьян). И все же, едва свершившись, открытие человека умелого; подобно яркой внезапной вспышке, и осветило и ослепило… В его отблесках рассматриваются сейчас и некоторые другие, замечательные находки. Республика Чад. 3 июня 1961 года француз Ив Коппен сообщил, что в 200 милях к северо-востоку от озера Чад обнаружил фрагмент черепа, несомненно принадлежавшего австралопитеку. Судя по тому, что чадантроп сопровождался остатками вымершего примитивного слона, он не только самый северный, но и один из самых древних австралопитеков. Кажется, он не так специализирован, как его более поздние южноафриканские родичи, и еще мсбкет выбирать обезьяньи и человеческие пути… Израиль. В 1963 году на южном берегу Тивериадского озера находят два фрагмента очень примитивного черепа, зуб, а также орудия, близкие к олдуванским. Рядом рассыпано много объеденных костей (черепахи, дикобраза, гиппопотама, носорога, слона). Кости расколоты, и, судя по царапинам, с них сдирали мясо, возможно, при помощи других костей… Крупные и мелкие планы перемешиваются в книгах по истории: история одного дня (например, «22 июня 1941 года»), одного года («1812 год»), повествование о нескольких тысячелетиях («История древнего Египта»). Но только с 1959 гида существует оригинальная задача: история миллионолетия, хотя бы от Homo habilis до питекантропа. Численность исторических персонажей в последней работе будет поменьше, чем население именного указателя в самой узкой и специальной исторической книге: на миллион лет всего несколько «умельцев», горстка гигантов, разношерстная (может быть, и в переносном и в буквальном смысле) группа австралопитеков и немного питекантропов в эпилоге. Итак — История человечества (первое миллионолетие). Вступление. Важнейшие События произошли раньше чем за два миллиона лет: если человек умелый и австралопитеки были в наличии 1750 тысяч лет назад, то, значит, за их спиной довольно длительное прошлое. Итак, намного раньше, чем два миллиона лет назад, одна (или не одна?) группа человекообразных обезьян, навсегда разойдясь с другой (от которой пошли горилла, шимпанзе, оранг), преуспела в прямо-хождении, освобождении рук и развитии мозга. Было это скорее всего в экваториальных широтах Азии или Африки, но вокруг передовых обезьян не должно было расти слишком много деревьев: иначе трудно объяснить склонность к наземному существованию. Жилось «последним обезьянам» нелегко, по определению: кому легко, тот приспособился и выбыл из игры, перейдя в оранги, гориллы и им подобные. (Напомним, что представляем весьма приближенную картину, не углубляясь в приличные сему случаю исторические и генетические рассуждения.) Обезьяны на тяжелую жизнь реагировали по-разному. Для нас очевидны по крайней мере два способа реакции, и оба появились задолго до эпохи олдувэйского первого слоя. Один способ — вырасти, набрать вес, ничего не бояться. Такова династия великанов. Гигантопитеки, колоссальные китайские человекообразные обезьяны, зажили вольготно и безопасно, предоставляя собратьям заботиться о более человеческих путях. Но наступит день, век, тысячелетие, появятся более быстрые зверьки, которых гиганту не догнать, или сойдет растительность, которой он питался, и, ревя от бесцельной мощи и голода, он вымрет, не в силах перемениться, расплачиваясь за десятки тысяч благополучных лет. Зато другие, высшие обезьяны, отвергнув гигантизм, идут в австралопитеки. Может быть, перемещаются из Азии в Африку, или наоборот (времени на все путешествия хватало: сотни тысяч, даже миллионы лет!). Так или иначе, но тут «введение» должно закончиться. Часы истории показывают 2 миллиона лет до нашей эры. Около 2 миллионов лет назад по Африке бродят австралопитеки: обезьяны, но очень необычные. Они сравнительно малы и слабы, но ищут компенсации, расхаживая на двух ногах, чтобы освободить руки. Руки берут кость, палку, камень. Сначала, может быть, случайно, эмпирически, потом все чаще. Австралопитеки не похожи друг на друга: одни мельче, другие крупнее. Одни больше специализировались, приспособились к растительной пище, другие еще не успели выбрать, выжидают, живут «на развилке дорог». Но уже давно, еще в конце «введения», раньше 2 миллионов лет, одна (а может, и не одна?) австралопитековая группа почему-то, в силу каких-то особенных условий (благоприятных? неблагоприятных? исторических? генетических? где? когда? — Не знаем, не знаем!), преуспела более других; эпизодический труд постепенно делается постоянным, рука все больше умеет, мозг все больше размышляет и растет. Группа, стая таких существ умножает, ускоряет индивидуальные достижения, перемалывает их в общественные. Не ведая, насколько многочислен был отряд (или отряды), рванувшийся вперед, мы все же видим страшную и в то же время перспективную ситуацию: еще до «второго миллиона» создался своего рода фон, широкий фронт очеловечивания. Не будь всяких многочисленных человекообразных австралопитеков, не было бы и небольшой передовой группы, сильно двинувшейся дальше. Мы необычайно близки, можно сказать, вплотную стоим у недостающего звена в цепи «обезьяна — человек». На ученых конгрессах в наши дни уже спорят о сюжетах, несколько лет назад почти не существовавших. Спорят, например, о том, как не ошибиться, отличая «последнюю обезьяну» от «первого человека». С виду черепа обоих могут быть совершенно одинаковы. У гориллы голова бывает не меньше, чем у «хабилиса». Понятно, было время, и вероятно долгое время, когда у обезьян, подошедших «к рубежу», изменения оставались не столько внешними, сколько внутренними: на вид тот же древний австралопитек, вроде зинджантропа, но в мозгу происходят важнейшие перемены, сначала микроскопические и только много веков спустя более заметные. Еще чуть-чуть, и, кажется, мы все узнаем о «скачке». Конечно, и прежде бывали иллюзии, но ведь и в самом деле все кажется ясным: были древнейшие центральноафриканские «почти что люди», а вот «умелец» — «едва-едва человек». Правда, между этими «почти что» и «едва», возможно, добрый миллион лет, но все же меньше, чем прежде, между питекантропом и «последней обезьяной»… Правда, мы все равно еще множества обстоятельств и процессов, сопровождавших «скачок», не ведаем, но все же знаем чуть больше, чем прежде… Сравним теперь «международную обстановку» 1 750 000 и 500 000 года до нашей эры. 1750 тысяч. Человек умелый уже далеко обошел братьев-австралопитеков. Но у него с ними одинаковы и образ жизни и места обитания. И в этом горе австралопитеков, которым суждено погибать в зубах прогрессивного родственника и умирать с голоду, отступая из самых обильных краев. Но, видно, все же долгое время корма хватало на всех и австралопитеки продолжали плодиться в центре Африки, а может быть, и в Азии. Хабилис, разумеется, тоже множился и путешествовал. В конце концов он, должно быть, освоил громадные пространства Африки и Азии. Находки олдувэйской гальки в Палестине, близ перешейка двух материков, быть может, память о великих переселениях. А в это время где-то в Азии доживают или уже дожили свой век гигантские обезьяны. 500 тысяч лет назад. Питекантроп, синантроп, мегантроп в Азии, питекантропы в Африке (атлантроп—на севере, телантроп — на юге, олдувэйский питекантроп — на востоке). На юге Африки и, кажется, больше нигде ютятся последние австралопитеки, будущая добыча Дарта и Брума. Что произошло, что соединяет две панорамы? Прежде всего трагедия австралопитеков. В конце концов всякое вымирание вида трагично, но никогда еще не вымирал вид столь совершенный, который, возможно, при иных обстоятельствах, не торопясь, сделался бы человеком разумным. Без австралопитеков не было бы человека, но человек воцарился без них. Постепенно оттесненные в полупустыни Африки, все более специализирующиеся, порою пытающиеся спастись гигантизмом, может быть, берущие в руку кость или камень, они все же безнадежно опоздали. Откуда нам знать, сколько ужаса и смерти скрыто за таким простым фактом, как находка телантропа, южноафриканского питекантропа, в той же каменоломне Сворткранс, где покоились австралопитеки? Непобедимые стаи питекантропов, мозговитых, блестяще орудующих камнями и ручными рубилами, наступали с севера. Мы имеем право сегодня предположить, что питекантроп — потомок «умельца». Существуют чрезвычайно интересные соображения о некоторых чертах сходства между олдувэйским человеком и самыми древними питекантропами Явы (из слоя Джетис). Более миллиона лет понадобилось, чтобы из мозга в 685 кубических сантиметров получилось 800–900… Чтобы от олдувэйской гальки перейти к шелльскому рубилу. Более миллиона лет, более десяти тысяч веков начальной истории, в сущности, не заполнены. Сколько всего было за это время невероятных, немыслимых, бесконечных событий, удач, падений, откровений, Сколько достижений, забытых потом веков на тысячу, вновь обретенных, оставшихся уделом гениев или перешедших к стае… Кстати о гениях. Мы несколько стесняемся этого сюжета, и зря, может быть. Японский ученый Каваи опубликовал недавно свои наблюдения за дикими макаками на маленьком островке. Обезьянам давали пшеничные зерна, высыпанные на прибрежный песок. Сперва они выбирали зернышки по отдельности из песка, но потом одна изобрела замечательный способ промывки: подобно золотоискателю, набрала полную пригоршню песка с зерном, подошла к морю и промыла песок водой. Гениальное открытие было подхвачено товарищами. Очень важно, что для такой процедуры пришлось ходить на двух ногах, «по-человечески». Здесь произошла обыкновенная история: гениальная обезьянка и быстрое освоение гениальности целым коллективом. Но ведь всегда были и будут выдающиеся особи — талантливые, гениальные кузнечики, орлы, волки, однако деятельность отдельных выдающихся экземпляров была обычно бесплодной для вида в целом. Насекомые, птицы, высшие млекопитающие плохо усваивали уроки гениев и преимущественно полагались на безошибочный инстинкт. Зато обезьяны больше других склонны к подражанию, и, значит, природа одарила их свойством легче овладевать тем, что обретено отдельным великим талантом. Роль выдающихся личностей в древнем коллективе, несомненно, возрастала, и весьма вероятно, что отдельные случайные находки, озарения, выдумки подхватывались и закреплялись стаей, группой (разумеется, если гений не слишком обгонял свою эпоху!). Ценность отдельной личности для всего вида отныне увеличивалась все больше и больше, и это было одним из признаков очеловечивания. Краткая история 500 000 года до нашей эры почти написана. Немного выпадают из нее новые гиганты, не гигантские обезьяны, а гигантские люди, мегантропы. Возможно, это одна из отделившихся групп австралопитеков: в последние годы находят много сходства между крупными австралопитеками и азиатскими гигантами. Соблазнительная дорога «внешнего величья», видимо, продолжала манить целые армии высокоразвитых обезьян. На этом пути они могли, достигнуть большой степени очеловечивания (Кенигсвальд, как говорилось, доказывает, что мегантропы обладали речью). Но в конце концов когда-то отчего-то гиганты сгинули… От питекантропов, ветвясь на боковые ходы и тупики, потянулась далекая, неровная, опасная человеческая дорога, но мы знаем теперь, что после питекантропа пройдено все-таки намного меньше, чем до него. Р. S. Написав эту часть, я рассказал московскому антропологу М. И. Урысону, как мне нравится новая схема древнейшей истории: «От первых австралопитеков к человеку умелому, а от него к питекантропу». Ученый вежливо меня выслушал и затем протянул оттиск из журнала «Калиге». Луис Лики объявлял о новой теории: Австралопитеки, питекантропы и Homo habilis — это три независимые друг от друга ветви, существовавшие в одно время (недаром одного из хабилисов нашли почти что в слое питекантропов!), Австралопитеки и питекантропы—это два тупика эволюции, от них никакой дороги к человеку разумному. Зато человек «умелец»—другое дело. От него, минуя питекантропов, идет историческая тропа к неандертальцам и современным людям. «Я знаю, что я ничего не знаю», — гордо заявил древний мудрец. «А я даже этого не знаю», — посрамил его более мудрый… Р. Р. S. В конце 1969 года в Восточной Африке открыли несколько очень совершенных австралопитеков, живших около двух с половиной миллионов лет назад. Возможно, начало человеческой истории будет отодвинуто в прошлое еще на семьсот-восемьсот тысяч лет… |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
