|
||||
|
|
Буквально два слова 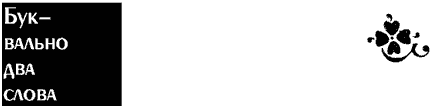
Увидев этот заголовок, повздорили между собой три моих приятеля. Первый, скептик и иронист, ехидно заметил: — Ну конечно! «Буквально два слова»! А напишете две тысячи два. Зачем эти гиперболы: «буквально»? — А затем, — откликнулся второй, — что вы-то и есть презреннейший из буквалистов. Вас смущает простейший языковой троп. Преувеличение. Или преуменьшение. — Он не буквалист. Он — буквоед, — вступился третий. — Если сказано: «Петух сидел на коньке», он спросит: «На кауром или на саврасом?» Или потребует, чтобы сказал: «Сидел на стыке плоскостей двускатной крыши». — Ни на йоту правды! Я этого не говорил… — Неважно, кто сказал «а», тот скажет и «бе»… Такого разговора не было. Но он мог быть, поэтому я и сочинил его. Зачем? Чтобы показать, что говорящим по-русски очень свойственно играть словами двух разрядов. Либо прямо произведенными от основы «буква», либо же теми, которые представляют собой «переносные значения» от самих названий букв в азбуке. Их «азбучные имена». «Буквалист», «буквоед»… «Кто скажет «а», скажет и «бе». «Ни на йоту…» Для чего это мне понадобилось? А разве пристрастие нашего языка к «букве» и ее производным не удивительно? Как много у нас разных производных от этого слова! Как много всевозможных пословиц, крылатых слов с ним связано. Подумайте сами: в совершенно естественном диалоге сразу подряд и «буквально», и «буквалист», и «буквоед»… И тут же рядом «от а до я», «ни аза ты не понимаешь»… И не в одном русском языке. Выражение «буквально» по-французски прозвучит: litteralement. Можно передать его и по-немецки. Получится: buchstablich. Французское выражение связано с франко-романским словом littera — «буква». Немецкое происходит от Buchstabe, что опять-таки значит «буква». А как поступили бы с нашим «буквально» итальянцы? Они сказали (или написали бы): alla léttera. Датчанин в этом случае выразился бы: bógstavelig. Иначе говоря, все народы Европы (каждый, конечно, на своем языке) воспользовались бы словами, тесно связанными все с тем же понятием «буква». В романских языках они оказались бы напоминающими латинское littera. Говорящие на языках германского корня употребили бы слова, связанные родственными отношениями с немецким Buchstabe. В славянских языках мы встретили бы слова, очень близкие к нашим: по-украински — «буквально»; у болгар — «буквално»… Возьмите теперь венгерский язык, никак не родственный остальным индоевропейским. У венгров «буква» — betű, а «буквально» — betűszerint. Может быть, так получилось потому, что венгры много веков живут в кольце европейцев, испытывая влияние их языков? Но поговорите с турками: турецкий язык всегда существовал, так сказать, на обочине европейского мира, за его пределами. И всё же, если «буква» по-турецки harf, то «буквально» прозвучит harf harfine. А ведь это при чуть-чуть вольном переводе и получится «буква в букву». Не знаю, что подумаете про все это вы, но мне такая общность в стремлении совершенно разных народов связывать между собою два совершенно различных представления — высшей точности, с одной стороны, и «письменного знака» — с другой, представляется и любопытной и поучительной. Это такая редкость, что мимо нее равнодушно не пройдешь. Каждый, кто сталкивается с этим явлением, кого интересуют проблемы «психологии языка», так или иначе попытается найти ему какое-нибудь объяснение. Мне кажется, что такая связь между далекими друг от друга представлениями может возникать в понимании говорящих лишь в определенных условиях их существования и на строго определенном уровне развития — как бы сама собою. И тотчас же становится в их глазах чем-то само собою разумеющимся. Почему? Попробуем рассуждать вот как. На начальных ступенях культуры (так же, как и в малолетстве каждого из нас) люди прежде всего привыкают выделять из живого потока речи СЛОВО. Вначале именно оно осознается ими — людьми и народами — как некий «речевой атом», как неделимая первооснова языка. Лишь много позже (я говорю тут не об ученых, не о науке) они овладевают умением разлагать этот атом на его элементарные частицы. Мы-то с вами теперь без труда и уверенно утверждаем: такими частицами, с которыми люди осваиваются раньше, чем они вырабатывают в себе способность находить более сложные элементы структуры слов, оказываются в их глазах звуки и состоящие из них слоги. Но вспомните своё собственное прошлое. Когда у вас родилось представление о звуке, о звучащем слоге? Я убеждён, вы скажете: не до того, как вы научились читать и писать, а после этого. В крайнем случае — в процессе обучения чтению и письму и в самой прямой связи с ним. В тот самый миг, когда мы вдруг уразумели, что такое «буква» и что такое «слог», не звучащий, а закрепленный на письме. Письменный. Чему удивляться? Трудно вообразить положение, когда ребенку понадобилось бы разлагать слова, звучащие слова, на составляющие их звуки — слышать слово «мама» как ряд из четырёх звуков: м-а-м-а. Ведь мы, обучаясь говорить, никогда не «складываем» слов из звуков. Мы познаем их, сживаемся с ними, как с трепетными, неделимыми и живыми целыми. И только при переходе к обучению письму дело осложняется самым прискорбным образом. Неожиданности подкарауливают нас на каждом шагу, и мы не сразу наловчаемся парировать их и избавляться от ошибок. В двенадцать лет мне поручили обучить чтению деревенских ребят, брата и сестру, маленьких старообрядцев. Ученики были года на четыре моложе учителя. Поначалу все пошло отлично: малолетки оказались смекалистыми и буквы разучили прекрасно. Я решил перейти к чтению слов. У нас был букварь с картинками и подписями. На букву П там фигурировала «пчела» — На букву Ш — «шайка» — Я вызвал первым Прокопа, парнишку. Мальчуган уставился в книгу: — П-ч-е… Пче!.. — от усердия завопил он на всю комнату. — Л-а, ла… — А что вместе будет? — Восва, которая кусается, — последовал неожиданный для учителя ответ. «Восва» на псковском диалекте означает «оса». И востроглазая Марфушка не принесла мне радости. Она точно так же назвала все буквы — «ш-а-й-к-а», но прочитала слово с милой улыбкой: «Кадочка!» С той поры я начал подозревать, что между знанием названий отдельных букв и умением соединять их в слова лежит пропасть. Думается, мой случай был далеко не исключительным. Весьма возможно, что и человечество — во время оно все до последнего жителя земли говорливое, но неграмотное — сначала в лице мудрейших своих открыло тайну письма. И лишь много позже, когда письмо это уже прошло долгий путь от рисуночного до звукового (буквенного), — лишь на одном из поздних этапов этого пути оно уразумело, что и живые слова делимы. Что их, оказывается, можно расчленять на звуки, потому что элементы эти, почти вовсе неслышимые порознь в сплошном потоке речи, начинают, применяя гоголевское словцо, «вызначиваться», как только вместо живых, пульсирующих, переливающихся всеми цветами радуги слов звучащей речи перед нами возникают их как бы засушенные таинственным волшебством подобия, призраки, отпечатки: слова письменного языка. Только человеку, изощренному в наблюдениях окружающей жизни, чудом представляется само звучащее слово. В одной из моих книг я уже поминал тончайший отрывок из купринского «Вечернего гостя». Автор ожидает прихода какого-то посетителя.
Надо быть даровитым психологом-аналитиком, да еще художником слова, чтобы так разглядеть необычное и таинственное в обыденном и привычном. Я не припомню где-либо еще в литературе нашей с такой силой переданное удивление перед чудом языка и мысли. А вот ощущению волшебного характера письма посвящали строки и страницы многие мастера литературы. Резче всего, пожалуй, чувства эти переданы М. Горьким. В книге «Мои университеты» он рассказывает, как, будучи подростком, взялся учить грамоте своего не умевшего читать старшего товарища — умного и пытливого волгаря, рабочего Изота. Великовозрастный ученик горячо взялся за дело. И наконец Алеша Пешков застал Изота в великом потрясении. Изот научился читать.
Судя по тому, что рассказывает Горький, мало вероятия, чтобы так же в свое время могла удивить Изота-ребёнка способность человека узнавать мысли собеседника через звучащее слово. Она казалась ему простой и естественной, как дыхание, как зрение. И понятно: это первое чудо все мы встречаем в столь раннем возрасте своем, что сперва не умеем ему как следует поразиться, а потом привыкаем к нему. А вот письмо, обрушивающееся на нас позднее, производит на начинающего умственно созревать отрока куда более острое и жгучее впечатление колдовства. Изот — Россия, Волга, 80-е годы прошлого века, мир безграмотных каталей и крючников, царство великой тьмы и великого страдания… А вот Париж середины того же XIX столетия. Вот маленький интеллигент француз, сын врача, Пьер Нозьер, в лице которого Анатоль Франс в значительной мере изобразил себя — ребенка. Между этими двумя лежат и тридцать лет, и три тысячи километров, и противоположность классовая, возрастная… И тем не менее…
Разница в малом: маленький парижанин слушал чтение отца; волгарь Изот сам с трудом складывал строки уличных объявлений. Но для обоих связь напечатанных букв со спрятанным в них или за ними смыслом казалась неправдоподобной тайной, волшебством, чудом из чудес. Вполне естественно, что такое отношение, свойственное каждому человеку в детские годы, — отношение к грамоте, к чтению, к письму — к буквам! — остается характерным и для всего человечества на определенных стадиях его развития. Остается потому, что в масштабах земного шара число его обитателей, стоящих в отношении к грамоте на уровне наших первоклашек, а то и дошколят, все еще чрезвычайно велико. Вероятно также, что в давние времена, когда пленочка «грамотеев» на океане безграмотности была еще во много раз тоньше, подавляющее большинство тогдашнего человечества больше дивилось диву чтения и письма, чем многим самым сказочным чудесам. Ведь недаром про все, что было закреплено пером на бумаге, говорилось с печальной иронией: «Не при нас оно писано!» — и в то же время благоговейно верилось, что «написанное пером не вырубишь топором!». Из этого противоречия чувств и родилось то восторженно-смущенное отношение и к самому письму, и, в частности, к его волшебному первоэлементу — букве, к предмету, так странно несхожему с той реальностью мира, которую буква отображает, — со звуком. В самом деле: вы вздумали овладеть колдовским искусством письма. Хотите вы того или нет, вам приходится начинать с изучения отдельных букв, с азбуки. Ведь и сегодня вместо «с самого начала» мы то и дело говорим, как когда-то наши предки: «с азов». Да как же не чудо? Я пишу «у меня бОк ломит», и вы жалеете меня. Но я изменил в этих словах единственную буковку: «у меня бЫк ломит», и вы уже не понимаете, удивляться вам, не верить или смеяться: весь смысл стал совершенно другим.[1] Невольно приходишь к убеждению, что слова «точно» и «буква в букву» выражают одно и то же. А допустимо, что большую роль сыграло и вот что. Бессмысленно спрашивать: звучащее слово «кошка» похоже на кошку-зверюшку или нет? Кошка — предмет, существо. У нее есть вид, внешность, материя. А у слова «кошка» одно звучание. Как и что сравнишь? А вот написанное слово «кошка» тоже предмет. По внешности оно явно ничем не напоминает кошку-животное. Но то, что грамотный человек, увидев пять странных закорючек — К-О-Ш-К-А, тотчас начинает «думать про кошку», поражает каждую наивную (или, наоборот, умудренную) душу. Ощущение это только укрепляется оттого, что он, даже неподготовленный младенец, воспринимая звучащее слово «кошка» как нечто неделимое, в данном случае ясно видит, из чего слагается слово написанное. Из букв. «Чудо звуков» для него не возникает, а вот «чудо букв» обрушивается на него нежданно-негаданно. И так как все это происходит не с одним-двумя, а со множеством людей и даже людских поколений, то вот поэтому мы твердо знаем «букву закона» и никогда не говорим о «звуке закона». Употребляем наречие «буквально», а не придумали слова «звукально». Называем педанта «буквоедом», но никого и никогда не окрестили еще «звукоедом». И нас не смущает, что, если рассудить «по науке», то все эти обыкновения покажутся и несправедливыми, и, пожалуй, оплошными… Ведь никто не сказал и не доказал, что буква хоть в каком-то отношении важнее и первороднее звука. Наоборот, по отношению к нему она является скорее чем-то вторичным. Звук — истинная реальность речи; буква — бледный слепок с него, отпечаток, вроде прославленного в науке отпечатка древней птицы археоптерикса на куске окаменевшего сланца. Да, бледный, но зато несравненно более долговечный! Вот почему девять человек из десяти охотно повторяют выражение «буква в букву», скажут «от а до я», а никогда не выразятся более справедливо: «звук в звук» или «от знака, изображающего звук «а», до того, который обозначает созвучие «йа». В большинстве случаев, желая определить повышенную точность, мы любим обращаться не к представлениям о звуках нашей речи, а к образам письменных знаков им соответствующих букв. Буква вечнее звука — летучего, мгновенного, с трудом уловимого. Та птица, которая отпечаталась на литографском камне Золенгофена, где она теперь? Её и память исчезла. А отпечаток её — вот он: пережил в земле сто с лишним миллионов лет, с юрской эпохи, и теперь красуется в музее. Сколько удалось просуществовать ей? А ему? Звук искони веков в глазах человека был символом всего нестойкого, преходящего. И след её существованья(А. Пушкин. Полтава) В словарях «звук пустой» так и поясняется: «о чем-либо, лишенном всякого смысла и значения». Так может ли быть, чтобы язык стал к такой «пустой и незначительной вещи» относиться с тем же почтением, что и к вещи солидной и «долгоиграющей», к букве? Подумайте о древней как мир привычке вырезать, высекать, надписывать свои имена (даже инициалы) на стенах старых зданий, на коре вековых деревьев, на отвесных обрывах утёсов… Дело это начал, может быть, еще Дарий Гистасп, увековечивший свои деяния и царское имя свое на Бехистунском утесе в Малой Азии за пять столетий до начала нашей эры. Пойдите сегодня на гранитные спуски набережных Невы, Москвы, Сены — всюду чернеют, синеют, лиловеют надписи, которые и верно трудно «вырубить топором» и многие из которых уже пережили своих творцов… Культурный уровень этих «писателей» весьма низок. Но у меня, филолога, к ним отношение в душе двойственное. Они как-никак верят в волшебную силу надписи. А это хорошая вера. Возьмите тот же Бехистун. Мне неинтересны те слова, которыми Дарий поименно клеймил своих разбитых врагов или восхвалял доблести собственных полководцев. Меня поражает в этой надписи другое. Надпись состоит из ряда фигур и словесных пояснений к ним. Фигуры изображают и сподвижников царя, и врагов. На голове крайнего из этих последних что-то вроде шутовского колпака. Под человеком короткая надпись. Когда ее расшифровали, она оказалась крайне лаконичной: «А это — скиф Скунка». С той поры прошло две тысячи пятьсот лет. Никому из ныне живущих людей не ведомо, кем был, что сотворил в своей жизни этот скиф, что сделал доброго и что — злого? Ни об одном из его близких до нас не дошло никаких сведений — ни о его женах, ни о его воинах, детях, внуках и правнуках. Но о том, что он был, двадцать пять веков кричали с высот Бехистуна письменные знаки, надпись. И едва нашелся хитроумец, сумевший ее прочесть, имя человека зазвучало вновь. Бехистунская надпись — всемирное чудо. Но тысячи надписей меньшего объема и значения заставляют ученых, языковедов, историков, археологов поминать добром их авторов, случайно ставших известными и в то же время оставшихся безымянными. …Бегали по новгородской улице XIII века двое мальчуганов. Один взял кусочек бересты и чем-то острым нацарапал на нем два ряда насмешливых и лукавых букв, видно дразнилку, бывшую в ходу между тогдашними школярами: Н В Ж П С Н Д М К З А Т С Ц Т Е Ђ Я И А Е У А А А Х О Е И А Непонятно? А это шифр. Прочтите надпись «зигзагом» — первая буква верхней строки, первая — нижней и так далее. И в переводе на наш нынешний русский язык с тогдашнего русского получится: НЕВЕЖДА ПИСАЛ, НЕДУМА КАЗАЛ, А КТО СИЕ ЧИТАЛ… Конец этого «берёста» оторван, и нам неизвестно, какую каверзную пакость по адресу читавшего он содержал. Но ясно одно: опорочив своего друга, читателя, новгородский мальчишка, живший чуть позже легендарного Садко, много раньше прославленной Марфы Посадницы, не поверил бы глазам своим, увидев тех убеленных сединами ученых, которые сквозь сверкающие лупы и микроскопы «читали» написанные им буквы, найдя их через пятьсот лет после его короткого, как молния, существования. Нет, про них он не посмел бы сказать ничего дерзкого, хотя они-то и оказались теми, «хто се цита» в непредставимом для него будущем. Всё, что окружало его, что было живо в его время, исчезло бесследно за полтысячелетия и никогда не воскресло бы заново, если бы… Да, если бы не буквы, не письмо. Они только и перебросили мост между нашим и его существованием… Ну что же? Пожалуй, причины великого почтения большинства народов мира, и, в частности, нашего, русского народа, к письменному знаку, к букве, причины того особого значения, которое они придают им теперь, как-то прояснились. И вот уже предисловие мое вроде бы как подходит к концу… Но здесь мне вдруг захотелось сделать еще одно — попутное! — замечание: может быть, оно представит некоторый интерес. Впрочем, это нельзя даже назвать «замечанием», так, скорее вопрос к самому себе… Да, неудивительно, что буквы в глазах наших давних предков казались чем-то не в пример более твердым и определенным, чем такая «воздушная субстанция», как звуки речи. Это понятно. Но вот что заслуживает некоторого недоумения: почему для наших пращуров менее строгим и внушающим меньшее доверие эталоном точности показались цифры? «Грамоте не знает, а цифирь твердит!» — неодобрительно отзывается пословица о любителях на пути познания перескочить через этап. «По грамоте осекся, так и цифирь не далась», — констатирует народная мудрость, как бы указывая на искусство чтения и письма как на фундамент к счётному делу. Почему, желая указать на точное следование чему-нибудь (ну, скажем, какому-то подлиннику), мы говорим, что следование это «буквальное»? Почему мы не называем его «чисельным» или «цифирным»? Правда, в наши дни, произнося определение «буквальный», мы нередко вкладываем в него немного иронический оттенок: мол, буквально — значит слепо, без рассуждений, всецело подчиняясь какому-то «закону буквы». Но это уж от нашей избалованности, изощренности. Это позднейшая добавка! Так вот, и спрашивается: почему это так? Ведь математики вправе обижаться… Казалось бы, именно число должно выражать представление о точности, о полном соответствии чего-нибудь с чем-либо. А подите же: и предкам нашим почудилось, и мы от них это смутное ощущение унаследовали, будто точнее сходства буквы с буквой ничего и на свете нет. По-видимому, так праотцев наших поразило великие чудо письма. И память об этом удивлении — и древнем, во дни веселого новгородского «невежи», и сравнительно новом, поразившем Пьера Нозьера в Париже и Изота на Волге, — дожила до нашего времени. Если не в наших мыслях, то в нашем языке. Недавно я слышал, как один очень авторитетный ученый-кибернетик сказал: «Эта модель представляет собою буквальное изображение процесса, происходящего в обществе, но в удобообозримой форме…» Я записал его формулу. Она поразила меня именно в устах математика. Было ясно, что он под «буквами» имел в виду не алгебраические символы. Он жил и рассуждал при помощи унаследованных от предков понятий и языковых образов. И подчинился инерции языка даже в той области мысли, в которой, казалось бы, ушел всего дальше от трафарета, — в математике. Он подчинился ЗАКОНУ БУКВЫ. Силён же, по-видимому, этот старый закон! 
Примечания:1 Учёный-лингвист справедливо заметит, что существо здесь не в замене «буквы буквой», а в подстановке одного звука на место другого. Но мы сейчас судим не с точки зрения науки, а с позиций человека, только приступающего к обучению грамоте, письму. Его-то поразит как раз эффект, возникающий от перемены букв. Впредь в этой книге буквы, о которых пойдет речь, будут обозначены прописными курсивными знаками, а звуки — курсивными строчными, заключенными в кавычки. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||


