|
||||
|
|
Глава четвертая. Чудесная тревога  СТРЕСС – НЕСЧАСТЬЕ ИЛИ БЛАГО? Итак, что же такое в конце концов стресс? Полезен он или вреден? Стресс укорачивает жизнь? Да! Стресс провоцирует болезнь? Безусловно! Но вспомним основателя учения о стрессе профессора Ганса Селье. Его поразило, что все болезни вызывают сходные психические реакции. А быть может, вопрос парадоксален, но не стоит от него отмахиваться, – есть болезни, которыми надо переболеть? Почти все мы переболеваем туберкулезом, только не догадываемся об этом: мы преодолеваем его так быстро, что это уже и не болезнь. Но в нас остается знак. Знак победы. Обызвествленная точка в легких – очаг Гона. Эта точка – след той необычной дани, которую мы отдали туберкулезу. Но вот иная ситуация. Человек, всю жизнь проживший в горах, спускается в долину. Там, в горах, стерильный воздух. Там не возникло у него гоновского очага. И человек заболевает, нет у него в запасе спасительного очага Гона. А быть может, как очаги Гона, человеку нужны стрессы? Стрессы как своего рода прививки. «Страх – это тоже болезнь, болезнь воображения», – обмолвился однажды Леонид Леонов. Страшно не из окна прыгнуть – страшно разбиться: страшно представить себе, что будет дальше. Можно ли научиться ничего не бояться? Говорят, можно. Верится с трудом, но далее следует традиционное объяснение: человек продолжает бояться, но знает, как вести себя в минуту опасности. Научное объяснение: не бояться – это не представлять себе, что будет потом. В молодости нам просто дано это свойство – не оглядываться. И потому вся молодость – это бесстрашие. Но ведь говорят еще, что вся молодость – «это чудесная тревога». Бесстрашие и тревога. Как это сочетается? И почему молодость – это тревога? Что такое вообще тревога? Тревога – это труба, которая поет во мне, когда я перехожу. Перехожу весь я, вся армия моих клеток, мускулов, мыслей. Существует постоянство, равновесие внутренней среды человека. В науке это называется гомеостазис. А может быть, есть нечто подобное и ъ духовной жизни? Стабильность, равновесие души? Но вот настал момент, я перехожу. От здоровья к болезни, от радости к тоске, от любви к разочарованию в любви. От возраста к возрасту. Заиграла труба – начался стресс. Стресс, тревога тела – это когда начинается переход: болезнь, тоска, горе. Бывает чудесная тревога – тревога молодости. Это когда начинается жизнь. Потому что вся молодость – это переход. Это поход в поисках самого себя. А когда ты в походе и труба трубит, разве ты оглядываешься? Тревожное бесстрашие. Или бесстрашная тревога… Ты бесстрашен, и тебя тянет к стрессам. Вся молодость – это потребность в стрессах. Психофизиологический дар не оглядываться, щедро отпущенный нам природой. (Ортодоксальный психолог может упрекнуть меня в произвольном употреблении термина стресс. И по-своему будет прав. Есть узкое его толкование. Есть более широкое. Но как назвать это чувство – стресс или напряженность? Слово «стресс» просто ближе всего, всего правдоподобнее.) Потребность в стрессах. Что это значит? Поиок острых ощущений? И это тоже. Жажда самоутверждения? Конечно! Поиск себя прежде всего! И еще потребность в «избавлении». Избавление здесь можно употребить как строгий психологический термин. Стремление к избавлению, к преодолению каких-то вещей в себе и вокруг себя – признак растущей личности. Мне тесно в той клетке, где протекает жизнь. Кажется, что все заранее предопределено. Даже имя дали без моего желания. А почему, собственно, я обязан хорошо учиться? Все задевает. И отметки, и учителя, и родители. И мелкие неприятности кажутся космическими катастрофами и способны искалечить жизнь. Больше всего •хочется избавиться от школы. От ее регулярности, то есть от уроков. Ведь это насилие над личностью – заставлять учить все уроки подряд. Какие-то предметы уже нравятся, какие-то не нравятся, хочется выбрать Самому. Чтобы выбрать, надо уже в чем-то самоутвердиться. Преодолеть мир канонов, окружающий со всех Сторон. Чтобы преодолеть его, хочется сделать нечто выпадающее из рамок обычной жизни. Что там, за этими рамками? Опасность, подвиг. Но в обычной жизни, школьной, где они, подвиги? Есть еще одна сфера – сильные чувства. Они помогут самоутвердиться в собственных глазах, а следовательно, избавиться. Два полюса, два пронзительных ощущения, два ожидания. Два стресса. Любовь и смерть. Совсем не страшно – в шестнадцать лет! Наступает зрелость, и смерть становится реальностью. И потери близких – первый опыт. И хождение в крематорий – репетиция. Смерть реальна. Но отдалена. Тем больше хочется жить. Начинается страх смерти. Каждый несет его в себе. И молчит об этом. Говорят за нас, безмолвных, великие люди. Так, по дневникам и «книгам на каждый день» мы можем восстановить, как боролся с собой и своими страхами Лев Толстой, как метался ом в поисках истины, как с надеждой искал в философии и религии примирения со смертью, как мечтал об одном – спокойно умереть. А любовь? Любовь в зрелости уже была и прошла. Или есть. И если она есть, то тем страшнее жить, потому что уже знаешь: ее можно потерять безвозвратно. Ведь так много зависит не только от тебя!.. Когда мы начинаем задумываться об этом? Поздно! А пока нам даровано великое чудо – ужас ожидания. Ожидания и готовности к смерти (потому что ты-то знаешь – на самом-то деле именно ты никогда не умрешь). Ожидания любви: любовь создает ощущение бессмертия. Потому-то, должно быть, молодость – идеал человечества. По нашим представлениям, идеал, в котором человеку надлежит пребывать вечно. Разумом мы еще можем понять: молодость – переход, всякий переход кончается, но поверить в это почти невозможно. Отвыкать приходится всю жизнь. Трудно отвыкнуть от блаженного чувства – все хочу, все могу, все легко! Впереди только счастье. Или смерть! И герой рассказа Бунина «Митина любовь» стреляется, не в силах перенести первого столкновения с реальной жизнью. Жизнь ужасна: девушка, которую любит студент Митя, обманула его. А Митя живет в это время в деревне, начинается весна, все в природе чисто и одухотворенно, кругом зарождается новая жизнь, а его, Митина, жизнь кончена, растоптана, уничтожена изменой. И ом берет пистолет и нажимает на курок, не особенно соображая, что он делает, лишь бы избавиться от тупой, невыносимой боли. Разве только в любви тут дело? Рушатся представления о мире, полном добра и справедливости, рушится, как сказал бы социальный психолог, его система ценностей. С этим невозможно примириться. И если мир не таков, каким представлял его себе Митя, то зачем жить в этом ужасном мире… Значит, вовсе не так уж легко приходят к нам спасительные очаги Гона? Обызвествление кусочка души, дающее возможность жить дальше. Недаром психиатры так внимательны к молодости. Молодость – это грань, хождение по острию. В чудесной тревоге – трагическая подкладка. Прошел, миновал молодость, говорят психиатры, проживет и дальше. Мир, если он ломает, ломает не человека, а его молодость. И если сломана молодость, сломана жизнь. «Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе». Это Хемингуэй, ночные мысли героя его романа «Прощай, оружие». Грустные мысли! Но это и мысли самого автора. Его молодость совпала с первой мировой войной. На стресс, присущий молодости вообще, на ложился стресс войны. Целые поколения прошли через этот стресс. Конечно, каждый из уцелевших в ту войну прошел этот двойной стресс по-своему. Было множество людей, получивших колоссальный иммунитет к страху, опасности, смерти. Они жили так, что, когда война окончилась, оказалось: в обыденной жизни им просто нет места, нет той точки приложения сил, в которой можно было воплотиться столь же полно, как на войне. Так родилось поколение, которое получило название «потерянного». Естественный переход от молодости к зрелости оказался для этого поколения невозможен. Переход этот воспринимался как надлом, конец настоящей жизни. Но если речь зашла о Хемингуэе, стоит напомнить один его разговор. Илья Эренбург вспоминал: Хемингуэй рассказывал, как его упрекали за то, что он всю жизнь пишет о неврастениках. «Я отвечал так, – сказал Хемингуэй, – бык на лугу – это здоровый парень. Бык на арене – неврастеник». Хемингуэй действительно всю жизнь писал о людях, поставленных в такие обстоятельства, когда они чувствовали себя на арене. Автор книг о тех, кто вызван на арену, стал образцом для подражания. И вот уже много лет, как он умер, а ореол не рассеивается, обаяние прожитой им жизни, обаяние его героев не меркнет. Почему так случилось? Хемингуэй искренне считал, что пишет только для тех, кто вызван на арену, и что людей этих в общем не так-то много. Не потому, что мало вызванных. Ведь есть и такие, кто и на арене (если продолжить метафору Хемингуэя) чувствует себя как на лугу: они слишком мало знают об арене и слишком много о луговой траве. Но оказалось, что и Хемингуэй, и его первые критики ошибались: множество людей почувствовали себя вызванными. А война окончилась. И выяснилось – их никто не звал. И весь запас стрессоактивности никчемен. Эти люди никому не нужны. И вот трагедия. И вот «потерянное» поколение. Мир Хемингуэя – особый мир. Тут слишком много замешано: послевоенная Европа, и Америка, и крушение последних идеалов гуманизма, и неустройство душевное, и кризисная экономическая ситуация. И вместе с тем в книгах Хемингуэя, в его «вызванных на арену» есть нечто от той психологической ситуации, которая сопровождает каждую войну. Недаром большая слава пришла к писателю уже после второй мировой войны, а ведь писал-то он в основном о первой. Все было иное, и все-таки многое повторялось. Ощущение вызванное™, описание того, как приходит к человеку стресс, как волна стресса несет человека и что из всего этого получается, – вот, наверное, что искали и находили в книгах Хемингуэя все новые и новые поколения читателей. Ощущение вызванности… Их особенно-то и не вызывали, а они вышли. И когда наступает прозрение и выясняется, что был только самообман, возникают грустные ночные мысли: «Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки». Герой романа «Прощай, оружие» думает об этом в ночи, глядя в лицо женщины, которую любит, глядя на Кэтрин Баркли. Ей тоже показалось одно время, что ее «вызвали», и она попала на войну. …Ощущение вызванности. А что бывает, когда ощущение вызванности совпадает с исторической правдой? В начале фильма лица героини не видно, видны только прямые плечи, спина в стандартном бостоновом костюме, угловатые, неловкие движения женской фигуры, не привыкшей к тому, что на ней что-то примеряют. Мы чувствуем, как тягостна этой женщине примерка: новый костюм – это докука, от которой следует поскорее избавиться. А потом появляется лицо, немолодое, некрасивое, скуластое, костлявое какое-то. И неинтересные маленькие глазки. Но в глазах этих что-то задевает, в них есть невысказанность, в них прячется нечто, не имеющее отношения к происходящему на экране. А на экране живет и раздражающе активно действует женщина, директор ремесленного училища, депутат, член разных комиссий и прочая. Она резка и бескомпромиссна. Она хочет как лучше, а получается плохо. Она занята только работой, и единственная дочь боится ее, не понимает. Какая пружина сидит в этой увядающей женщине и заставляет ее жить вот так – безрадостно, убежденно, только для других? И вдруг мы видим ее портрет в местном краеведческом музее. Она совсем молоденькая летчица, смеется, рядом парень в военной форме. Он смеется тоже. Эта женщина, оказывается, героиня, гордость города. Ей пишут друзья военных лет и помнят ее той, с фотографии, летающей, любящей того парня. Всего этого давно нет. Он не вернулся с войны, а она уцелела и стала такой вот – в костюме с накладными плечами, деловой, всезнающей, вызывающей неприязнь у тех, кому она благотворит. Но откуда в зале после конца фильма «Крылья» с Майей Булгаковой это напряженное молчание? Почему в картине такой странный конец? Эта малопривлекательная женщина приходит на аэродром, садится в маленький самолет времен войны, давно превращенный в тренировочный, и улетает. Сначала она летит неуверенно, потом поднимается все выше, выше… Вернется ли она обратно? Приземлится или разобьется, еще раз испытав счастье преодоления пространства, воскрешая и душе давно погребенное, но не забываемое, оказывается, нн на одну минуту? Этот фильм трудно пересказывать. В пересказе в нем появляется банальность. Картина же сделана сухо и точно. И прекрасна в нем Майя Булгакова, до предела беспощадная к своей героине. И мы, зрители, к концу фильма отдаем ей свое сердце и пробуем ее понять. Мы даже плачем: мы запоздало начинаем понимать не только ее судьбу, а судьбу близких нам людей, прошедших войну; мы начинаем осознавать, что есть в их жизни измерение, куда нам не дано заглянуть. Это второе измерение объясняет нынешнюю, не совсем понятную нам жизнь наших близких. …Миллионы людей не вернулись с войны совсем. Миллионы вернувшихся остались там на всю жизнь. Они не обязательно сломались, как ломались герои Хемингуэя; они просто, не осознавая того, остались жить в самом насыщенном времени своей жизни. И благополучный коммерсант из Латинской Америки, бывший заключенный, в растерянности бродит по Бухенвальду: он ничего не узнает, лагерь превратился в музей. И вдруг радостный крик: «Вот здесь был наш барак, а здесь была виселица!» И он счастливо смеется, как человек, вернувшийся в край своей молодости. «Ведь это были лучшие годы моей жизни», – обращается он к окружающим. Лучшие годы? В концлагере?.. А вполне ли нормален этот благополучный коммерсант? Грустный психологический парадокс, но человек этот нормален. Вполне. Ведь тогда, в Бухенвальде, был ад, была смерть, был страх. Но еще была молодость, еще была солидарность, была та натянутость всех струя души, которая позволила ему выжить. А что было потом? Потом было скучно. Потом он наживал деньги, потом все было как у всех. Потом ничего не было… Я немного отвлекусь в сторону. Известный советский психолог Петр Яковлевич Гальперин привел однажды такой пример. Пример этот не про войну, совсем про другое. «Я смотрел фильм «Леди Гамильтон». Там нищая старуха рассказывает историю своей жизни: любовь, величие, смерть возлюбленного. «А что потом?» – спрашивают ее. «А потом ничего не было». Хотя потом была длинная жизнь. Реплику леди Гамильтон, – пишет Гальперин, – можно объяснить, пожалуй, в терминах психологии. Психологи различают понятия – действие и поступок. Действуем мы бесконечно: обуваемся, садимся в автобус, обедаем. Поступок – изменение судьбы; возвеличение или гибель наших ценностей, переосмысление жизненно значимого…» Война – это поступки, все «экстремальные», то есть чрезвычайные, ситуации в жизни человека – тоже поступки. Остальное только действия. …Так что же, все прошедшие войну остались на войне? К счастью, все люди разные. У всех разные счеты со своей молодостью. Латиноамериканец, ощутивший себя счастливым в Бухенвальде, после войны только наживал деньги. Скучное, бессмысленное занятие. Цель – продержаться, выжить, атмосфера братства – все это осталось в далеком прошлом. Впереди цели нет. И потому лучшие годы там, в прошлом. За разные вещи люди боролись в последнюю войну. К разным вещам и целям вернулись. Об этом не следует забывать. …Кроме оставшихся, есть еще в каждой войне не оставшиеся. Есть, например, победители. «Уверенность в победе усыпляет страдание» – так писали в старинных книгах. Эта старомодно-изысканная фраза всего лишь иллюстрация к проверенному статистикой факту: смертность от ран в армии побеждающей гораздо ниже, чем в армии побеждаемой. Смертность от ран телесных, душевных, всяких. И все равно у тех и у других – стресс. Его нелегко пережить. Даже победителю. Победитель берет на свои плечи все то, что разрушила война. Поколение победителей восстанавливало нашу разоренную страну, и это была высокая цель. Так кто же героиня фильма «Крылья»? «Оставшаяся», если следовать нашей терминологии, или победительница? И почему она не сломалась? В ней много всего, как во всяком человеческом характере. А не сломалась она, наверное, потому, что ее действительно звали. И она это знала. …Молодых поэтов, погибших в Отечественную войну – Павла Когана, Николая Отраду, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, тоже звали. Их позвало время. И они услышали его зов. Уже позади был Халхин-Гол, уже была финская война, много чего уже было трудного, малопонятного. Уже были все психологические предпосылки для возникновения стресса. И он пришел. К избранным. К поэтам. Война еще не началась, но все уже было. Уже опять к границам сизым составы Случаен ли этот год – девятнадцатый? Да нет. В девятнадцатом году за коммунизм гибли. Скоро наступит столь же роковое время. Поколение Кульчицкого готово к смерти. По логике молодости – к бессмертию. Одно из стихотворений Михаила Кульчицкого так и называется – «Бессмертие». На двадцать лет я младше века, Они были готовы к гибели, твердо зная, что их страна победит. Бывает даже у коней в бою предчувствие победы… За два года до 22 июня 1941 года они были в том душевном состоянии, которое у других началось только тогда, когда разразилась война. В чем же психологическая разгадка их удивительной судьбы: раннего расцвета таланта, осознания своей миссии? …Мое поколение – это пулю прими и рухни. Так все оно и случилось: приняли пулю и рухнули. Не хватало хлеба. Не хватало марли. Но все это было уже без них. Они стали спичками, порохом. Во всех воспоминаниях друзей поэтов (а в последние годы вышло несколько сборников) много добрых и горестных слов, во всех воспоминаниях определения: «Они были глашатаями того предвоенного поколения, которое приходило к поре начинающейся внутренней зрелости в конце 30-х годов». «Они поняли свое поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю огромную тяжесть будущей войны». Во всех воспоминаниях потаенное удивление: была в этих юношах некая осененность, отмеченность, которые трудно передаются словами о глашатаях, поколении, потерях, хотя все эти слова – правда. Но в этой правде нет объяснения. Не о социальном объяснении, разумеется, идет речь – о чисто психологическом. Конечно, объяснение сложно и многозначно. Тут надо вспомнить идеалы русской интеллигенции начала века и поэзию первых послереволюционных лет – это та духовная подпочва, которая их питала. Тут надо вспомнить ощущение «осажденной крепости», в которой жил Советский Союз все эти десятилетия. Стихи, написанные в ощущении осажденной крепости, стихи, написанные людьми, убежденными в святости того, что предстоит защищать, совсем особые стихи. И при этом молодость. И при этом накал ожидания. Они загорелись от ожидания. От святого ожидания. Они были слишком талантливы, чтобы рано или поздно не воплотиться. Но почему так рано? Это ожидание сформировало в них так рано поэтов, ожидание настолько острое, что они знали: они не удержатся и в будущей войне погибнут первыми. «А ДАЛЬШЕ ТИШИНА…» На дополнительный урок литературы мы пришли в тот день в четверть восьмого утра. В школьной программе Шекспира не было, но наша учительница Сула- мифь Яковлевна считала, что к Шекспиру следует «хотя бы прикоснуться». Школа работала в две смены. Мы учились в первую. После уроков оставаться было негде, и темными морозными улицами мы бегали на дополнительные уроки (нам не приходило в голову, что и она должна была поспевать к семи утра с другого конца города на ею же придуманные вовсе необязательные уроки). Собирались мы почему-то в физкультурном зале, сидели на чем придется – на матрацах, скамейках, просто на полу. Почему не в классе? Только сейчас, когда вдруг всплыл этот запоздалый вопрос, я вдруг думаю, что физкультурный зал Суламнфь Яковлевна выбрала не случайно: он подчеркивал неформальность, свободу наших встреч. В то утро она рассказывала нам о Гамлете. О том, чем был для нее Гамлет в шестнадцать, двадцать, сорок лет. О разном восприятии этого образа в разные времена. О том, как великие – Гёте, Толстой, относятся к великим – Шекспиру. Она говорила о загадочности Гамлета. Она говорила много понятного, малопонятного и совсем непонятного. А в конце спросила: «Может ли Гамлет быть вашим героем?» Были мы, десятиклассники, подготовлены к ответу на этот вопрос? Скорей мы были подготовлены к другому, к тому, что Суламифь Яковлевна способна задавать такие вопросы. Она мало походила на обычную учительницу литературы. Более того, она была совсем на нее не похожа. Она не обращала никакого внимания на то, что называется педагогикой и методикой преподавания. Она ругала нас «непедагогичными» словами. Я же была удостоена «высшей чести»: в меня она однажды швырнула книгой – толстым томом «Войны и мира». Как ,все в школе, я боялась ее до холода в груди, но на nepiBoft парте любое отклонение от правил всегда грозит неприятностями. А школьная жизнь моя ввиду хронически плохого поведения протекала именно на этой столь неуютной, легко просматриваемой парте. Что тогда случилось глубоко криминальное? Не помню. Помню только, как разлетелись по классу разноцветные закладки: синие – Пьер, красные – князь Андрей, голубые – Наташа. Она не попала в меня, чему заметно огорчилась. …Больше всего ее раздражала леность наших шестнадцатилетних душ, неразвитость литературного вкуса, неопределенность привязанностей к литературе. И все- таки она добилась своего, она заставила нас полюбить литературу как самое высокое, сложное и прекрасное, что создано человеческой культурой. Она не воспитывала нас. Но она нас воспитала. Собой. Такими вот утрами, когда, увлекшись, общалась не с нами, а с теми великими, кто «не вошел» в программу. Нет, конечно же, она общалась и с нами. Прошло много лет, прежде чем мы стали понимать, что она обращалась и к нам тоже, к лучшему в нас, едва просыпающемуся. В то утро она точно задала свой вопрос. Только так можно было спрашивать тогда у нас, только в таких категориях: «Любите, не любите, презираете, ненавидите, кто ваш герой?» Она применила еще одни психологический ход – задала вопрос и не потребовала ответа, не крикнула раздраженно свое обычное: «Ну-ну, шевелитесь живее, поднимайте руки!» Мы не подняли рук. И потому, неотвеченный, вопрос остался в памяти, он понуждал к внутренней работе, к чтению книг о Шекспире, сравнению разных переводов «Гамлета». Зерно было посеяно. Может, потому мне и хочется сейчас вернуться к Гамлету наших шестнадцати лет? В самом деле, мог ли он стать нашим героем? А может, нам был тогда гораздо больше сродни не Гамлет, а его прототип – Амлет, герой хроники датского летописца Саксона Грамматика, жившего в XII веке. Амлет Саксона Грамматика – красивый, яркий, самоуверенный парень. Ах, какая это прекрасная сага, какой характер! Исследователь Шекспира Александр Аникст так пересказывает эту старинную историю.  Датский феодал Горвеидил прославился силой и мужеством. Его слава породила такую зависть норвежского короля Коллера, что тот вызвал его на поединок. Поединок закончился победой Горвендила. Тогда датский король Рерик отдал в жены Горвендилу свою дочь Геруту. От этого брака родился Амлет. У Горвендила был брат, Фенгон, который завидовал его удачам и питал к нему тайную вражду. Они оба правили Ютландией. Фенгон решил избавиться от брата. Во время пира он открыто напал на Горвендила и убил его. В оправдание он заявил, будто защищал честь Геруты, оскорбленной своим мужем. Хотя это было ложыо, никто не стал опровергать его объяснений. Владычество над Ютландией перешло к Фенгону. Он женился на Геруте. Когда произошло убийство Горвендила, Амлет был еще очень юн. Однако Фенгон опасался, что, став взрослым, Амлет отомстит за смерть отца. Юный принц был умен и хитер. Он догадывался об опасениях своего дяди Фенгона. И чтобы отвести от себя всякие подозрения в тайных намерениях против Фенгона, Амлет притворился сумасшедшим. Но кое-кто из придворных стал догадываться, что Амлет только притворяется безумным. Они посоветовали сделать так, что Амлет встретился с подосланной к нему красивой девушкой. Ей предстояло обольстить его и обнаружить, что принц отнюдь не сошел с ума. Но один из придворных предупредил Амлета. К тому же оказалось, что девушка, которую выбрали для этой цели, влюблена в Амлета. Она дала ему понять, что хотят проверить подлинность его безумия. Таким образом, первая попытка поймать Амлета в ловушку не удалась. Тогда один из придворных предложил испытать Амлета таким способом: Фенгон сообщит, что он уезжает, Амлета сведут с матерью, и, может быть, он откроет ей свои тайные замыслы, а советник Фенгона подслушает их разговор. Так и сделали. Однако Амлет догадался, что все это неспроста. Придя к матери, он повел себя как помешанный, запел петухом и вскочил на одеяло, размахивая руками, как крыльями. Но тут он почувствовал, что под одеялом кто-то спрятан. Выхватив меч, он убил советника короля, разрубил его труп на части и сбросил в сточную яму. Затем Амлет вернулся к матери и стал упрекать ее за измену Горвендилу и брак с убийцей мужа. Герута покаялась в своей вине, и тогда Амлет открыл ей, что хочет отомстить Фенгону. Фенгон ничего не узнал и на этот раз. Но буйство Амлета пугало его, и он решил избавиться от принца раз и навсегда. С этой целью он отправил его в сопровождении двух придворных в Англию. Спутникам Амлета были вручены таблички с письмом, которое нужно было тайно передать английскому королю. В письме Фенгон просил казнить Амлета, как только тот высадится в Англии. Пока его спутники спали, Амлет разыскал таблички и, прочитав, что там написано, стер свое имя, а вместо него поставил имена придворных. Сверх того он дописал, что Фенгон якобы просит выдать за принца дочь английского короля. Переданное Амлетом письмо возымело действие: придворных казнили, а его обручили с дочерью английского короля. Прошел год. Амлет вернулся в Ютландию, где его считали умершим. Он попал на тризну. Ее справляли по нему. Ничуть не смутившись, Амлет принял участие в пиршестве и напоил всех присутствующих. Когда они, опьянев, свалились на пол и заснули, он накрыл всех большим ковром, приколол его к полу так, чтобы никто не мог выбраться, и поджег дворец. Саксон Грамматик всячески одобряет своего героя: «О храбрый Амлет, он достоин бессмертной славы! Хитро притворившись безумным, он скрыл от всех свой разум, но хотя он прикинулся глупым, на самом деле его ум превосходил разумение обыкновенных людей. Это помогло ему не только обезопасить себя, но также найти средство отомстить за отца. Его умелая самозащита от опасности и суровая месть за родителя вызывает наше восхищение, и трудно сказать, за что его больше хвалить следует – за ум или смелость». Сага об Амлете на этом не кончается. Он стал королем и правил вместе со своей женой, английской принцессой; она была ему достойной и верной супругой. После ее смерти Амлет женился на воинственной шотландской королеве Гертруде, которая была ему неверна и покинула его в беде. Как правитель Ютландии, Амлет был вассалом датской короны. После смерти Рерика новый датский король не пожелал мириться с независимым поведением Амлета, между ними возникла борьба. Амлет был убит… Такова древняя сага. Зачем мне понадобилось подробно пересказать Самсона Грамматика? Потому что, обнаружив полное совпадение подробностей старой хроники и великой трагедии, мы заметили совершенно потрясшую нас в те годы вещь: одни и те же поступки могут совершать совершенно разные люди – Амлет и Гамлет. Простая мысль, что в жизни так бывает, до этого как-то не приходила нам в голову. И начинались оценки. Забытый всеми Амлет – вот кто мог бы, казалось, стать героем. В те годы только-только начали появляться на наших экранах вестерны – фильмы с удачливыми, белозубыми, отчаянными героями, очень похожими на Амлета Саксона Грамматика. Он образец хитрости и рыцарской чести, он не колеблется и хочет одного: отомстить за смерть отца. При нем все – сила воли, хладнокровие. В его судьбе то, чему положено случаться с настоящим героем, страшное испытание и конечное торжество. Такая судьба может увлечь. А Гамлет Шекспира? Он другой. Хотя по схеме все то же. Вот убили его отца, вот он притворился сумасшедшим, вот он подменил письмо. Он все равно другой. Какой же он? Гамлет – один из самых интеллектуальных героев в мировой литературе. Но если взять и выписать подряд все его мысли, как предлагает Аникст, выяснится, что ничего особенно мудрого он не говорил. Нет в его словах глубочайших философских откровений. «И в небе и на земле сокрыто больше, «Что ему Гекуба, что он Гекубе, что об ней рыдать». «Так трусами нас делает раздумье». В самом деле, ну и что? Аникст пишет об этом парадоксе так: «Если мы сравним Гамлета и героя философской трагедии Гёте «Фауст», то увидим, что Фауст действительно великий мыслитель в том смысле, что его речи представляют собой глубокие откровения о жизни, и по сравнению с ним Гамлет в этом отношении покажется в самом деле не больше, чем студентом». Откуда же легенда о его интеллектуальности? И, выписав усердно доказательства того, что Гамлет не умен, снова перечитываешь пьесу. И снова та же напасть! Снова он умный. Снова вместе с мим переживаешь его боль и отчаяние. В чем же здесь дело? Дело в пустяке! Дело в гениальности Шекспира. Он так строит каждую сцену, он ставит Гамлета в такие обстоятельства, что тот или подводит итог, или испытует. или осмеивает, или прозревает то, что не дано понять другим. Он подсвечен Шекспиром со всех сторон. Отсюда ощущение вершины. Значит, дело не в каком-то особенном уме. Дело в нашем восприятии вершины, величия. Какого? «А человек он был», – говорит Гамлет Горацио о своем отце. – Что это значит? Пустые слова? – спросила нас зимним угром Суламифь Яковлевна. Что мы ей тогда отвечали? Бормотали что-то невнятное. И с тех пор сидит во мне неизлитая досада. Ведь удержалась, не потянула нас к ответу: «Мог бы быть он вашим героем? Не мог бы быть он вашим героем?» А тут не вытерпела – «Что значат эти слова?» Ведь это все равно что спросить: «Что значит быть человеком?» Ведь она же нас все-таки втайне уважала, она не позволяла себе задавать вопросы, на которые каждый дурак знает, как отвечать: «Быть человеком?» Это из серии детсадовских вопросов. – Это быть честным, смелым, мужественным. Вот мы и бормотали про Гамлета что-то в этом роде. Но нет худа без добра. С тех пор я слежу, если позволено здесь употребить столь обыденное выражение, за выходящей у нас «гамлетовской» литературой. Существует легенда, связанная с Гамлетом. Этой легенде уже скоро четыреста лет. Легенда о том, что Гамлет – эталон нерешительности. Гёте так сказал о Гамлете: «Мне ясно, что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу… Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного – невозможного не само по себе, а того, что для него невозможно…» И дальше поэтическое сравнение: «Это все равно, как если бы дуб посадили в фарфоровую вазу, корни дуба разрослись, а ваза разбилась». Фарфоровая ваза! Но ведь Гамлет беспрерывно совершает поступки, а в конце на сцене валяется достаточное количество трупов. Поступки не доказательства, утверждает большая часть гамлетовской критики. Надо совершать их вовремя. А один из критиков съязвил, что Шекспир заставил Гамлета колебаться, и тот не убил короля тотчас в первом действии по одной причине: иначе не было бы следующих четырех актов. Но ведь Гамлет «человеком был», человеком в самом современном понимании этого слова: он не может просто поверить на слово, он хочет убедиться. Разве это признак безволия и слабости? Скорее признак нормальности человеческой души, которая должна до конца пройти крестный путь познания. Призрак отца открыл ему тайну своей смерти. В призраков тогда верили. И Гамлет поверил. Но ему важно убедиться. И он перепроверяет, придумывает сцену с актерами. Он всех перепроверяет, даже Офелию. И, перепроверяя, каждый раз совершает выбор. Он размышляет вслух там, где обычно люди молчат. Скрытая внутренняя работа души обнажена для зрителя. Что же с ним происходит в конце концов? А может быть, то, что так хорошо сформулировал один из любимых героев школьных лет? Андрей Болконский в тяжкую минуту жизни говорит Пьеру Безухову: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много». С князем Андреем то, что происходит с Гамлетом, стало. К нему пришло понимание, и он не особенно рад этому. У него уже многое было в жизни. Он был честолюбив, у него была жена, она умерла. Он полюбил девушку, она ему изменила. Наполеон проехал мимо него на коне и указал на него свите: «Вот прекрасная смерть». С князем Андреем это стало. А понимать стремился Пьер. Следуя отвлеченным психологическим классификациям, князь Андрей – человек действия. Пьер – мыслитель. Это жизнь превратила князя Андрея в мыслителя. Он не создан для этой роли, и ему это ужасно. У него это трудно получается. «Ты всем хорош… но у тебя есть какая-то гордость мысли… и это большой грех», – говорит княжна Марья брату. Писатель не знает, что с ним делать. Любой писатель должен был бы его убить. И Толстой тоже. Но, убивая князя Андрея, он оставляет вместо него Николеньку. Николенька – подрастающий принц. Ему суждено встретиться с людьми действия. Ему суждено соединить в себе деятельную натуру отца и созерцательность Пьера. В нескольких строчках Толстой перетрансформирует с помощью Николеньки всю направленность романа. Пятнадцатилетний Николенька «мальчик с тонкою шеей, выходившею из отложных воротничков» – возможный декабрист. Николенька – Гамлет. В другой стране, в другую эпоху, с другой программой. Так что же Гамлет – синтез князя Андрея и Пьера? Трудно решиться сделать столь категорический вывод, хотя, признаюсь, в шестнадцать лет очень этого хотелось: ведь мы искали доводы .не в себе, не в жизни – в литературных героях. То, что с князем Андреем стало, с Гамлетом стряслось. И… и надо действовать. «А человек он был…» Перепроверка, сомнение, выбор – чисто человеческие свойства, те свойства, которые современные психологи, кстати, определяют как ведущие свойства личности, Он стремится к тому, к чему стремится всякий человек и что так трудно дается в реальной жизни: он хочет, чтобы его внутренние убеждения совпали с его внешними действиями. И снова наисовременнейшая философская и психологическая проблема, ее обсуждают представители самых разных направлений и систем: разрыв между внутренними убеждениями и внешними действиями порождает массу конфликтов, неврозов, создает ощущение внутренней неустроенности. Но есть еще одно: когда он убедился, он сделал все то, что сделал Амлет Саксона Грамматика. Гамлет хочет восстановить справедливость, он хочет правды («Я не хочу того, что кажется»). Не голой истины, которую сообщил ему призрак, а правды, той, за которую проливается кровь. Добиваясь этой правды, он ошибается и, что, пожалуй, самое человечное, платит за эту правду. Он ткнул шпагой в ковер и убил отца девушки, которую любил. А девушка сошла с ума и утонула. Наконец, пытаясь раскрыть эту правду всем, он гибнет. Мог ли он не умереть в финале? Так хочется этого вопреки всем законам построения трагедии. В одной из работ, посвященных шекспировской трагедии, высказывается такое соображение: «Если бы режиссер в сцене с мышеловкой, обладая предвидением ¦ фактов жизни, включил бы в представление и сцену гибели самого Гамлета, то поведение героя трагедии было бы совсем иным». Но мы тогда и понятия не имели о научной проблеме «намерение – осуществление». Мы просто знали: Гамлет умнее всех, ведь он мог бы что-нибудь придумать, как придумывал до этого, перехитрить, обмануть, снова притвориться, и… и, конечно же, стать справедливым королем. А может, просто пришла та минута, когда наступила пора действовать: раскрывается правда, до конца обнаруживается преступность того, что происходит вокруг? Пришла та минута… У каждого из нас своя стена. И своя спина. И приходит та минута, когда спина касается стены – и больше пути нет. И дальше начинается то великое, чему научил нас Шекспир. Можно сдаться, можно упасть на колени. Вот ты упал на колени, вот ты сдался, вот ты от всего отрекся. Или просто отступил и признал свои ошибки: «Да, я был Гамлет, принц датский, больше не буду». Но если ты Гамлет, если ты принц, если за тобой правда, то попытка отречения бессмысленна. Ситуация безвыходна, тебя все равно убьют, раньше или позже. Не падай на колени! Так Шекспир учил действовать. Встречать лицом к лицу свою стену. Учил оставаться быть самим собой. Произвольная трактовка! Чудовищная! Ненаучная. Гамлет совсем «не про то». Но что поделаешь! Для нас это было тогда «про то». А дальше? «Дальше тишина»,- говорит умирающий Гамлет Горацио и просит «поведать правду об мне неутоленным». Дальше тишина. Но всегда остаются неутоленные. Эти слова и эту истину замечаешь позднее. Когда разбираешь причины гибели Гамлета, возникает еще один вопрос: почему так яростно обрушился на принца королевский двор. Потому что король боялся, что он узнает правду? Но еще до сцены с актерами его хотели спровадить в Англию. На всякий случай? Нет, он мешал, он был опасен. В XX веке «Гамлетом» много занимались профессиональные психологи. Много занимались им и философы, увидевшие в нем первого человека нового времени. Всякое профессиональное вмешательство неизбежно сужает предмет, о котором идет речь. На живую ткань искусства накладывается сетка пристрастий, излюбленных тем или иным автором научных идей. Но часто бывает полезно взглянуть на любимое, казалось бы, знаемое насквозь чуть-чуть иными глазами. …Мы сидели в компании психологов и разговаривали. Мы говорили в тот вечер о стрессе и о молодости. И тогда кто-то привел в пример «Гамлета». – Почему он опасен? Не потому, что он может узнать правду. Можно отречься от престола, но нельзя отречься от молодости, от того, что ты принц, от своих двадцати лет. Не может он отречься от того, что он еще молод, а они стары и скоро умрут. Король – это, в конце концов, должность. А принц? Он страшен не тем, чем он является, а тем, чем он может стать. – Иными словами, стресс молодости, да? – спросила я. – И стресс этот опасен? – Ну конечно. Нельзя отречься от своего будущего. От самого себя. От принца. Принц – он бомба. Из него нельзя вынуть часовой механизм. Принц – это неосуществленное право. Неосуществленных прав на свете множество. Но есть право, которое обязательно осуществится, которому не в силах помешать дряблая старческая воля. Право это – молодость. О Гамлете ли говорили мы в тот вечер? По существу, конечно, нет. Но можно ли его так увидеть? Так можно увидеть. Вполне профессионально увидеть, с привлечением современного философского и психологического аппарата. Но так оптимистично, что ли, почувствовать Гамлета можно только в определенных возрастных пределах. Когда ты сам еще молод, тогда тебе кажется, что молодость опасна и победительна. Кому, кроме молодости, кажется, что она опасна? Ведь молодость беззащитна. Ибо она полна бескорыстия: она умеет любить, жертвовать собой, она меньше боится смерти. Мне очень хотелось бы встретиться с моими собеседниками лет через тридцать. Интересно, о чем мы будем говорить, обсуждая Гамлета через тридцать лет? Впрочем, есть одна математическая работа, где мне уже дан ответ на этот вопрос. В ней построена система доказательств, из которой следует, что логически невозможно предположить существование единого Гамлета. Есть единый текст, допустим, 160 страниц текста. Гамлета же как такового не существует, есть только его отражения, его зеркала, множество зеркал! А если учесть, что каждый из нас в течение жизни меняется и вместе с нами меняется «наш Гамлет», то сколько же их было! И понятны становятся многовековые споры: на определенную историческую эпоху, на определенный литературный стиль даже у самого беспристрастного исследователя накладывается свой личный опыт, решение собственных «гамлетовских» вопросов. Понятны? Что же гут понятного? Можно попытаться объяснять происходившее вокруг Гамлета. Можно набраться храбрости и пытаться объяснять самого Гамлета. Но невозможно внушить себе, что когда-то «Гамлета» не было. Вот в 1601 году он уже был, а в 1599-м его еще не существовало. «Гамлет» для нас уже нечто материальное, почти телесное. Это уже реальность. Как реален город, в котором ты живешь. Как вполне реальны встречи с живыми людьми, так или иначе повлиявшими на нашу жизнь. Он реальность большая, чем мы, созданные из крови, мускулов, стекла и бетона. Исчезнет моя улица, мой дом, уйду в небытие я и мои близкие. А он, «Гамлет», эти 160 страниц текста, они останутся. …Чудо искусства, должно быть, еще и в том, что в тяжелые минуты эта мысль иногда кажется утешительной. 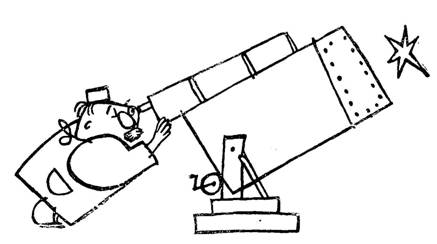 |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
