|
||||
|
|
Артем ДрабкинБОДНАРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
 Война застала меня в Ульяновском танковом училище, в котором к тому времени я уже проучился полтора года. Начальник училища, Герой Советского Союза Владимир Нестерович Кашуба, бывший командиром 35-й танковой бригады на финской войне, вышел на трибуну и сказал: «Сынки! Началась война с фашистской Германией! Она будет очень тяжелой и долгой. Учитесь столько, сколько возможно, и не заставляйте меня посылать вас на фронт преждевременно. Войны на всех хватит». Правда, первые недели две-три все ждали, что вот еще чуть-чуть и Красная Армия остановит противника, а потом перейдет в наступление. Нам же перед войной говорили: «Врага разобьм малой кровью на его территории». Хотя этого не произошло, и немцы подошли к Москве, ни у меня, ни у моих товарищей не было сомнения в том, что, даже если Москва падет, война будет продолжаться. Ведь за нами Урал, за нами Сибирь и огромное количество народа! Почему я пошел в танковое училище? Надо сказать, что, когда я учился в средней школе, даже нам, школьникам, была очевидна неизбежность войны с фашистской Германией. Поэтому свое будущее я связывал с Красной Армией. Кроме того, мой дядя, бывший тогда офицером, в 39-м году мне сказал: «Саша, ты заканчиваешь десятилетку. Я тебе советую пойти в училище. Войны не избежать, так лучше уж быть командиром — больше сможешь сделать, потому что лучше будешь обучен». Эти слова сыграли свою роль при принятии решения, и я поступил в одно из лучших училищ — Ульяновское танковое. В училище поначалу нас готовили на должность командира взвода легких танков БТ и Т-26, но после запуска в серию тяжелого танка KB училище было частично перепрофилировано, и нас стали учить на командиров тяжелых танков. Курс училища состоял из трех рот по сто человек курсантов в каждой роте, разбитых на четыре классных отделения по двадцать пять человек. Таким образом, шестьсот курсантов одновременно обучались на двух курсах, и каждый год училище выпускало триста офицеров. В училище был специальный батальон обеспечения, укомплектованный всеми машинами, которые мы изучали. Батальон располагался в лагерях над Волгой за двадцать километров от училища. Мы туда выезжали зимой и летом: водили танки, стреляли, обслуживали их, ремонтировали. Учили очень хорошо, много было практических занятий. Основной упор делался на вождение танка и стрельбу из танковых огневых средств. На полигоне были как неподвижные, так и движущиеся фанерные мишени. Для них узкоколеечку делали и в блиндаже устанавливали специальный моторчик, который их перетаскивал. Отрабатывали упражнения «стрельба в обороне» — это когда танк стоит в капонире, выверено расстояние, есть хорошо пристрелянные рубежи, «стрельба с короткой остановки» — в атаке командир подает механику-водителю команду: «Короткая!», и механик медленно останавливает машину, а командир считает: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три», за это время он должен успеть прицелиться и выстрелить, и «стрельба с ходу» — такая стрельба велась только по площадным целям. Очень подробно мы изучали материальную часть. Двигатель М-17 очень сложный, но мы его знали до последнего винтика. Пушку, пулемет — все это разбирали и собирали. Сегодня так не учат, да и не надо так учить, потому что на БТ экипаж все сам делал, а на современных танках экипаж только воюет. Радиостанции были тогда редкостью, а радийная связь неустойчива, поэтому учили нас подавать сигналы флажками. Всего было двадцать сигналов, которые все надо было знать назубок. Но на фронте никто никогда флажками не командовал — бегали от машины к машине или просто орали во всю глотку. На некоторых танках даже не было переговорного устройства между членами экипажа! Все команды отдавались только голосом: «Механик — вперед! Механик — короткая!» Или: «Заряжающий, бронебойный!» Хотя чаще командовали руками: заряжающему под нос сунул кулак, и он уже знает, что это бронебойный, а растопыренную пятерню — осколочный. В общем, практики было достаточно, чтобы владеть танком БТ. Осваивать танк KB пришлось уже в ходе войны. Что значит осваивать? Пришли три танка, которые пригнали в город Ульяновск, на площадь Ленина. Нам дали сесть в тяжелый танк, проехать до памятника Ленину, включить заднюю передачу и вернуться обратно, еще раз проехать до памятника Ленину, но уже переключившись с первой передачи на вторую и вернуться обратно. Сразу вместо «Мишки» садился «Ванька». С этим знанием танка KB я и ушел в 20-ю танковую бригаду на Бородинское поле. Остальное фронт дополнил…  В октябре 1941 года, проучившись в училище полтора года вместо положенных двух, я был выпущен в звании лейтенанта и очутился в городе Владимире на формировании 20-й танковой бригады. Формировались неделю: 1 октября началось формирование, а девятого мы уже погрузились в эшелон. Перед этим приехал маршал бронетанковых войск Федоренко, торжественно вручил знамя бригады. Мы прошли маршем по городу, после чего нас погрузили и отправили под Москву. Танки нас ждали в районе Голицыно, в Дорохове. Бригада в московских боях была очень разношерстной и довольно слабенькой. В ее составе было около семи танков KB, штук двадцать Т-34, а в остальном Т-60, БТ и Т-26. Я получил танк KB и 11 октября 1941 года уже был на Бородинском поле. Противник прорвался на участке 32-й дивизии, и нашу бригаду, бывшую во втором эшелоне обороны, развернули и закопали в землю. У моего танка торчала одна башня с 76-мм пушкой. В своем первом бою я без всякой боязни с дистанции метров пятьсот-шестьсот сжег два бронетранспортера, а когда немцы из них выскочили, я еще полосовал их из пулемета. В мой танк было два скользящих попадания в башню снарядов танка T-IV, но, конечно, без пробития. Следующие полтора месяца мы отходили, ведя оборонительные бои, неся потери. Мне удалось уцелеть в этих боях, но в памяти они не отложились. В декабре пошли в контрнаступление, и 21 января 1942 года бригада подошла к городу Руза. Сам город находился на возвышенности, на западном берегу одноименной реки. Пехота под огнем залегла и не идет. Командир дивизии, которой была придана 20-я танковая бригада, приказал: «Пустить танк KB вперед, прикрыть пехоту, чтобы она вышла на лед и атаковала Рузу». Командир моего батальона говорит: «Сынок, пойдешь на лед». — «Ну, вы же знаете, что танк весит сорок восемь тонн. Лед еще тонок и не выдержит машину», — говорю я. «Сынок, приказ надо выполнять, иначе пехота не пойдет. Сделай так, чтобы, когда ты станешь тонуть, все успели выскочить». Я водителю Мирошникову, бывшему артисту ворошиловградского театра, который был на четыре года старше меня (он ко мне обращался: «Ну, лейтенант». Я считал, что это нормально, потому что я только что прибыл в бригаду, а он отступал от западных границ и уже был с орденом Красного Знамени), говорю: «Мирошников, если пойдем на дно, ты сразу выключай передачу, чтобы потом, когда будут танк вытаскивать, не тянуть его вместе с гусеницей, а перекатывать». — «Ну, это мы знаем, лейтенант, это мы знаем». А остальным членам экипажа говорю: «Верхний люк не закрывать». Прошли мы по льду метров семь-восемь, и все — танк пошел на дно. Слава богу, у всех хватило сил в танковых комбинезонах, в телогрейках и валенках выплыть. А уже пехота вцепилась в противоположный берег, и пулеметного огня с той стороны не было. Нас тут же на берегу раздели догола, каждого завернули в меховой полушубок, отправили в землянку, дали по стакану водки и сказали: «Спите!» Мы проспали ночь, а утром меня разбудил начальник ремонтной бригады и сказал: «Боднарь, поехали за тросами в Москву — танк тащить». Привезли к вечеру трос, саперы подцепили наш танк, вытащили, просушили, заменили аккумуляторы, и через три дня я уже был опять в наступлении. О чем этот эпизод говорит? Танки придавались общевойсковому командиру. Допустим, принято решение: «Вот эта танковая рота атакует вместе с этим стрелковым полком». Приходишь к командиру стрелкового полка: «О! Танкисты! Это хорошо! Теперь у нас дела веселее пойдут! Вот что, братцы, вы пока нас не обгоните, мы никуда не поднимемся!» А что это значит? А то, что атаковать мы будем со скоростью пехоты! А это в свою очередь приведет к неоправданным потерям. Пехота считала, что танки — это броневой щит. Уже потом, в ходе войны, мы научились применять танковые войска, которые стали получать самостоятельные задачи. Конечно, танки НПП[8] у пехоты остались, но такого положения, как в сорок первом году, когда все танки были НПП, уже не было. К апрелю 1942 года мы подошли к Гжатску, это сегодняшний город Гагарин. Здесь мы встали в оборону. Нас пополнили. Пришло много Т-34, и батальон уже состоял практически только из этих танков. «Тридцатьчетверки», к сожалению, пришли производства Сталинградского тракторного завода. У них опорные катки были без бандажей, и при движении грохот стоял страшный. Много пришло Т-60, которые давал Горький. KB по-прежнему было очень мало, потому что Ленинградский кировский завод перестал давать KB, а Челябинский кировский завод еще не пустили, поэтому KB были только сборные из подбитых ранее. Меня назначили командиром взвода управления в танковый батальон капитана Медведева. Во взвод управления входили танк Т-34 командира батальона и два легких танка Т-60. Я сдал свой KB, и мы с механиком-водителем Мирошниковым пересели на Т-34. Мой KB в последующих боях подорвался на мине. О судьбе его экипажа я ничего не знаю. Были ли различия между KB и Т-34? Незначительные были. Переподготовка обученного танкиста с одного танка на другой требует не больше недели. Поначалу, как только затишье, я садился за панораму, работал с пушкой, старался поводить машину. В молодости новую технику осваивать легко и интересно. В начале августа наша бригада была переброшена на Калининский фронт. Августовское наступление 1942 года мы начали от станции Шаховская в направлении Погорелое Городище — Ржев. Это была первая попытка срезать так называемый Ржевский балкон. Помню, командир батальона капитан Александр Михайлович Медведев собрал нас, командиров рот и взводов, и сказал: «Немец должен покатиться до Смоленска, поэтому будьте решительны. Идите вперед. Решайте задачи». Но далеко мы не продвинулись. Хотя наступление первые пять-шесть дней имело результат, и нам удалось отогнать немцев где-то километров на семьдесят, но бить «летнего немца» мы еще не умели. В чем это выражалось? Например, наши исходные позиции были на удалении трех километров от переднего края. Это, конечно же, неправильно, нужно, чтобы пехота была не далее километра, но никак не трех. Перешли в наступление. Я шел в километре или полутора за нашими боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное убитыми и ранеными нашими солдатами. Молодые ребята, с гвардейскими значками, в новеньком обмундировании, в гимнастерочках. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил наших солдат. Такое вот неумелое преодоление обороны. Солдатики были готовы на все, а командиры не знали, как правильно наступать. Нужно было подтянуть минометы, какую-то артиллерию, подавить этот первый пулемет, но нет, командиры гнали: «Вперед! Вперед!» Это был жаркий день. Помню, сестричка медицинская бегала по полю и кричала: «Ой, люди добрые! Помогите мне! Помогите мне их убрать в тенек!» Я помогал ей перетаскивать раненых. Большинство было в шоковом состоянии, без сознания, и трудно было определить, кто ранен, а кто уже мертвый. Впечатление было очень тяжелое: «Какие мы несем потери, какой кровью достается война!» Потом я уже не видел такого неумелого управления, когда от одного пулемета легла целая поляна людей. Все это издержки первого, оборонительного периода войны, когда мы еще не умели по-настоящему воевать и аж до самого Сталинграда учились этому у немцев. А после Сталинграда нам уже не нужно было учиться, мы уже сами умели. Я помню, прошел уже со своим танком километров пятнадцать — сколько техники немцы бросили: обеспечивающие машины, ремонтные мастерские! Зашел в одну машину, а там в ящиках белые полотенца для обслуживания материальной части. Мне бы это полотенце взять, для того чтобы нос вытереть, а они что-то ремонтируют, вытирают полотенцами! Думаю: «Да, хорошо живете, ребята!» Вышел, смотрю, стоит мотоцикл «BMW». Я раньше такого никогда не видел и ездить на мотоцикле не умел. Сел — не знаю, как переключить передачу, потому что не знаю, где сцепление. Думаю: «Ладно, лишь бы только поехал, а там уже газ сброшу». Кое-как завел его и рванул с места. Мой командир танка на Т-60 ехал, а я за ним на мотоцикле. Так до самого вечера прокатался, пока не очутился в бригаде и контрразведчик не отнял его у меня: «Тебе воевать нужно, а мотоцикл я заберу».  И вот 7 августа мы очутились у деревни Крестцы. К этому времени в батальоне осталось три танка: «тридцатьчетверки» комбата и лейтенанта Долгушина, моего товарища по Ульяновскому училищу, и один Т-60, а остальные танки были повреждены или уничтожены. Потери мы несли очень большие, в основном от противотанковой артиллерии, потому что танков немцы в массовом порядке не применяли. Правда, когда я догонял свой батальон на Т-60, я видел восемь подбитых пэтээровцами танков Т-IV или T-III. Главное, не похоже на немцев, чтобы так по-дурному нарвались: танки стояли в линеечку на открытом участке с интервалом пятьдесят метров. На войне существовал такой закон: бригада получает боевую задачу до последнего танка, и, только когда последний танк сожжен, она выводится из боя и отправляется на переформирование в тыл, получать новые танки. Командир батальона меня вызвал и сказал: «Сынок, мне уже командовать нечем, я не пойду. Это твоя участь. Вот тебе две „тридцатьчетверки“ — мой танк, танк лейтенанта Долгушина — и Т-60. Постарайся ночью ворваться в деревню и удержаться там, а утром уже подойдет пехота». Вот и вся задача. Впереди речушка, через нее мост. Как правило, мосты немцы минировали. А в речушке болото такое, что если полезешь — увязнешь, а значит, не выполнишь задачу. И я решил рискнуть — пустить через мост, фактически на смерть, Т-60. Случилось чудо — мост оказался не заминирован, и по нему мы проскочили на другой берег. Подошли к деревушке. Немцы открыли орудийный и пулеметный огонь, мы тоже начали из пулеметов стрелять. Смеркалось, и мне приходилось все время высовываться из люка — ни черта не было видно (я, когда шел в атаку, люк на защелку не закрывал, а подвязывал ремнем, один конец которого цеплял за защелку люка, а другой — к крюку, держащему боеприпасы на башне, в случае, если будут ранены руки, открыть его ударом головы). Вижу, загорелся танк Долгушина, думаю: «Что же вы не выскакиваете?! Что же не выскакиваете?!» Смотрю — выскочили: «Слава богу!» Я остался с одним Т-60 и Т-34 на окраине деревни. Ночь прошла спокойно. Ранним утром, часов в шесть — еще было прохладно — немцы пошли в контратаку. В первый и последний раз я видел густую цепь немцев, одетых в шинели нараспашку, вооруженных автоматами и карабинами. Я видел их лица — обросшие и, надо полагать, пьяные. Я косил их из пулемета, и мои пули, пробивая их тела насквозь, вырывали клочья шинелей у них на спине. Это было похоже на расстрел. Я смог. Я продержался. Разгромил пять закопанных легких танков. Они ничего не могли сделать, поскольку я был на «тридцатьчетверке», лобовую броню которой они не пробивали. Бой закончился. Подошла пехота. После полудня раздается стук в днище танка, и солдатик говорит: «Лейтенант Боднарь. Вам записка от командира батальона». Я говорю: «Принять через десантный люк». Командир пишет: «Сынок, в пять часов вечера, как сыграют „катюши“, постарайся прорваться с пехотой на противоположную окраину деревни». Вот и все приказание. Никаких разъединительных линий, ориентиров, только «сынок, постарайся прорваться на противоположную окраину». И я приказал готовиться. И вот мы рванули. Я вижу: на противоположной окраине залитая солнцем поляна, и у меня только одно желание — добраться до этой поляны, раз там открыто, значит, деревня моя, а командир сказал прорваться на окраину, значит, я дальше не пойду — задачу выполнил и живой остался. И только я это подумал, вижу в панораму: развернулась немецкая танковая пушка! Снаряд в борт! Механик кричит: «Командир! Радиста Тарасова убили!» Я наклоняюсь над Тарасовым, он весь черный, через него снаряд прошел. Еще удар! Танк заглох и вспыхнул! Тут уже надо самим спасаться. Откинул люк, крикнул экипажу: «К машине!» и выскочил. Мы трое выскочили на картофельное поле, убитый остался в танке. Кругом свистят пули, я ранен, у меня из левой ноги хлещет кровь. Подползает механик-водитель и говорит: «Лейтенант, дай мне свой револьвер, я и тебя, и себя охранять буду». — «А где, — говорю, — твой?» — «Да в танке отстегнулся и остался». Я знал, что он всегда отстегивал его и клал на сиденье, потому что работать рычагами он мешал, а на этот раз судьба его наказала. «Нет, — говорю, — не могу я этого сделать, потому что я ранен, и в случае чего я не смогу себя прикончить, потому что в плен я не сдамся. А почему танк заглох?» И он рассказал, что второй снаряд повредил блок защиты аккумуляторов, который подает ток на стартер. Я говорю: «А воздухом почему не попробовал завести?» — «Забыл». Пока мы лежали в картошке, танк перестал гореть. Я лежу и думаю: «Ну, что ж ты не горишь, что не горишь?» Ведь если танк не сгорел, мне грозил штрафной батальон, потому что я имел право оставить танк только в двух случаях: во-первых, если он сгорел, и, во-вторых, если вооружение вышло из строя. А так и орудие было в порядке, и танк перестал гореть. Оказывается, горел не сам танк, а масло на днище, а когда оно выгорело, то и танк перестал гореть. Я лежу, думаю об ответственности за брошенный танк, какое наказание меня ждет, если останусь живой, и говорю механику-водителю: «Подползи и попробуй завести танк. Немцы думают, что нас нет и уже не будет». А жить-то хочется! «Потом наедь на нас и попробуй взять через десантный люк». Тогда-то я думал, что это возможно, потому что очень жить хотелось, сейчас я понимаю, что так нельзя было сделать. Какой механик-водитель, когда по нему стреляют, будет наезжать, открывать десантный люк, брать меня раненого и еще заряжающего?! Это невозможно! Механик влетел в танк. Танк взревел, крутанулся, как собака за хвостом, и помчался к своим. Сейчас я считаю, что он сделал правильно. Иначе, если бы он пошел нас забрать, погибли бы все. А тогда… Потом я читал в «Комсомольской правде» заметку про этот бой. Там было сказано, что «семь раз немцы поджигали танк, и семь раз механик-водитель его тушил». Ну, это, конечно, вранье, которое написал какой-нибудь невоевавший комсомолец. А тогда мы с заряжающим Слеповым остались в картошке. Дело уже к вечеру, стрельба поутихла, и мы поползли. Нашли наш блиндаж сорок первого года, немцев в нем не было. Мы заползли туда и прижались к задней стенке. Слепов своим брючным ремнем перевязал мне ногу выше колена, правда, к тому времени кровь уже остановилась. Слышим — по оставленному нами следу, примятой картошке, идут два немца. Один из них приказывает другому идти осмотреть блиндаж, а тот отказывается. И они начинают поливать из автомата бруствер блиндажа, земля сыпется мне на голову, но пули нас не достают. Хорошо, что гранату не кинули. Слепов мне знаками показывает: «Отодвинься», но я махнул рукой: «Ладно, не попадут». Страшно спать хочется, потому что потерял много крови. Но главное, успеть застрелиться, потому что немцы разбудят, когда будут звезды на спине вырезать. У меня в револьвере было семь патронов, 1938 года выпуска. Каждый второй дает осечку, поэтому я рассчитал: три патрона на немцев и четыре на себя, чтоб гарантированно застрелиться. Чтобы не уснуть, я брал пригоршню холодной земли прислонял ко лбу, к щекам. Вот так я лежал, отвинчивая кубики с петлиц, чтобы, если попаду в плен, меня приняли за солдата и меньше издевались, и думал: «Господи, спаси меня! Если это произойдет, я всегда буду верить в Тебя». Так и произошло. И по сей день верю. Хотя, в моем представлении, бог — высший космический разум. В этот момент сыграли «катюши». Немцам досталось. Они: «Вай-вай-вай» и побежали — им уже не до нас было. Я слышу, они там какого-то своего раненого потащили, и в этот момент в блиндаж задом вползает немец и… засыпает. Вот такая вот фантастика. Шел восьмой день наступления, немцы уже были пьяные и измотанные. Я Слепову знаками показываю: «Иди и ножом его зарежь». Он в ответ: «Я ножом не умею». Тогда я ему у виска показал, что расстреляю, если не выполнит приказ. Он понял, отполз, взял нож, и только раз я слышал, как немец прохрипел, но он его кромсал довольно долго. Как стемнело, мы решили пробираться к своим. Выползли из землянки — ночь, звезды, роса. Надо ползти, и опять я отдаю невыполнимое распоряжение. «Ползи, — говорю, — один, потому что ты не ранен, а доползешь, скажи, чтобы по твоему следу послали пехотинца, чтобы он подобрал меня». Ну, кто же поверит, что там лейтенант какой-то лежит?! Да еще неизвестно, дойдет ли Слепов… Но очень хотелось жить! И он пошел, а я пополз в надежде, что за ночь доползу к своим. Подползаю к дому, стоявшему на моем пути, слышу пьяный немецкий галдеж. Возле дома сидит женщина лет под сорок, ровесница моей матери, и плачет. Я на нее наставляю револьвер и говорю: «Ползи ко мне». — «Да откуда ты на мою голову взялся?! Немцы в доме, дети в лесу, что я делать-то с тобой буду?» — «Ползи, а то убью». Она подползла, я ее обнял. «Ползи, — говорю, — к нашим». Она знала, куда ползти, и уже под утро мы подобрались к нашему переднему краю, услышали русскую речь. «Ну, — говорю, — останешься или поползешь обратно?» — «Обратно, у меня дети там». И по сей день жалею, что не сказал ей спасибо. Она уползла, а я говорю: «Ребята, я раненый лейтенант, я с вами утром на танке воевал». Слышу сначала пожилой голос: «Мало ли вас тут раненых ползает. Немцы лазутчиков посылают». — «Я не лазутчик, а лейтенант, который с танком с вами был». Молодой голос отвечает: «Ребята, ну как же так?! Ну, это же лейтенант, который там… » — «Встань и подними руки!» — «Я не могу встать, я ранен в ногу». Тогда молодому говорят: «Ползи, если что — дай очередь». Ко мне подползли, вытащили, говорю: «Танк хоть один остался?» — «Да, есть там маленький». — «Позовите ко мне командира». Подбегает командир: «Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!» — «Вези, — говорю, — меня на исходную». Ну, он обрадовался, потому что с передовой едет в тыл, да еще лейтенанта спасает, в общем, и ему хорошо, и мне. Привезли меня на исходную, откуда я вчера начинал наступление, а командир батальона мне говорит: «Сынок, я знал, что так получится, но получилось даже лучше, чем я думал. Ну, теперь ты отвоевался, и слава богу». Меня отнесли в землянку, где врач, жена командира бригады Константинова, говорит: «Разрежьте ему сапог и комбинезон». Разрезали. Она: «Ох, как тебя разворотило! Налейте ему стакан водки!» Дали мне стакан водки, и она меня прооперировала и перевязала. На следующий день меня потащили на носилках на станцию Шаховскую: впереди маленький солдат, а сзади старый высокий. Я говорю: «Вы уж поменяйтесь, если что». — «Ничего, лейтенант, донесем». И тут «юнкерсы» начали штурмовать Погорелое Городище и Шаховскую, они меня бросили на дороге, а сами в кювет. Я потом спрашиваю: «А меня в кювет не надо было?» — «Ну, так получилось… » Это жизнь. Принесли меня, положили на траву, помню, дали борща, вкусного такого, жирного. А потом здоровенные девки стали нас на носилках таскать в теплушки эшелона, отправлявшегося в Москву. Перетаскали и кричат: «Быстрее, до налета немецких бомбардировщиков». И когда мы поехали, слышу, в соседнем вагоне песни запели. Я у старого солдата спрашиваю: «Что это такое?» — «Это те девки, которые нас грузили, поют». — «А почему они в Москву едут?» — «Рожать». — «Как рожать?!» — «Ну, когда в октябре сорок первого всех поголовно забрали, им матери сказали: „Побыстрей забеременей и возвращайся домой“. Вот они и выполнили их наказ, но я их не осуждаю. За тот бой я был награжден орденом Красной Звезды. Я лежал в госпитале на станции Бобыльской. Мой дружок говорит: «Сашка! О тебе „Комсомольская правда“ пишет!» Я прочитал: «Танк под командованием лейтенанта Боднаря первым ворвался в деревню… » Это ж надо, именно этот номер дружок заметил. Судьба… А вот что стало с механиком-водителем и заряжающим, я не знаю. Девять месяцев я провел в госпиталях. Рана была тяжелая, плохо заживала. Сначала был на станции Бобыльской, потом в городе Златоуст. В середине 1943 года выписался из госпиталя с палочкой и решением медицинской комиссии «ограниченно годен для несения воинской службы». Меня направили в учебный танковый полк, располагавшийся в городе Верхний Уфалей. Там, в должности командира учебной роты, до конца войны я готовил механиков-водителей танка Т-34 для фронта, потому что я знал, каким он должен быть и как их надо готовить. Разменяв девятый десяток, я жалею, что мы и немцы так по-варварски относились друг к другу на войне. Они наших убитых тягачами в болота стаскивали, ну и мы их. У нас могил немецких — раз-два и обчелся: немножко под Москвой, немножко под Сталинградом. Когда я был в Германии, в Липешенцдорфе, я увидел кладбище русских пленных Первой мировой войны и подумал: «Тогда немцы стояли на более высоком уровне развития. Они понимали: вот пленные, вот они умирают, вот здесь можно хоронить». А немцы Второй мировой войны, охваченные идеями нацизма, уже такими не были. Мы тоже цивилизованностью не отличались — приходили на их полевые кладбища, сносили кресты и шли дальше. АРИЯ СЕМЕН ЛЬВОВИЧ
Когда началась война, я учился в Новосибирском институте военных инженеров транспорта. Осенью 1941 года весь наш курс был отправлен на фронт, под Москву. Правда, до фронта доехать мне не удалось, поскольку наш эшелон разбомбили и я с тяжелой контузией попал в госпиталь. После госпиталя меня направили в 19-й учебный танковый полк, располагавшийся в Нижнем Тагиле. Полк состоял из батальонов, каждый из которых готовил танкистов определенной специальности: в одном готовили командиров танка, в другом — башнеров[9] и т. д. Я попал в батальон, готовивший механиков-водителей. Нас обучали вождению, связи с командиром, устройству, обслуживанию двигателя. Надо сказать, что в зимних условиях завести двигатель танка было очень тяжело. Для этого нужно было часа за два до выезда его прогреть, то есть подсунуть под танк противень величиной чуть меньше танка, налить в него дизельное топливо и поджечь. Часа через полтора танк, который, как и мы, был весь в копоти, начинали заводить. Возили нас и на полигон, где заставляли преодолевать препятствия, менять трак. Это была очень тяжелая операция — ремонт гусеницы. От экипажа требовалась взаимозаменяемость, но на самом деле она отсутствовала — очень уж кратким было обучение. Например, я всего несколько раз выстрелил из орудия. В эти два или три месяца, что мы находились в ЗАПе, приходилось поучаствовать и в сборке танков на главном конвейере завода.  Что можно сказать о «тридцатьчетверке»? В принципе удачная машина, достаточно надежная. Из недостатков можно выделить внутреннюю связь, которая работала безобразно. Поэтому связь осуществлялась ногами, т. е. у меня на плечах стояли сапоги командира танка, он мне давил на левое или на правое плечо, соответственно я поворачивал танк налево или направо, удар по голове — остановка. Когда я работал адвокатом, заведующим нашей консультации был полковник в отставке Крапивин, Герой Советского Союза, командовавший во время войны танковым полком. Когда я рассказал ему, как сапогами сражались с противником, он сказал: «О! Теперь я признаю, что ты действительно танкист». Кроме того, были совершенно безобразные триплексы на люке механика-водителя. Они были сделаны из отвратительного желтого или зеленого оргстекла, дававшего совершенно искаженную, волнистую картинку. Разобрать что-либо через такой триплекс, особенно в прыгающем танке, было невозможно. Поэтому войну вели с приоткрытыми на ладонь люками. Вообще, в Т-34 забота об экипаже была минимальная. Я лазил в американские и английские танки. Там экипаж находился в более комфортных условиях: танки изнутри были окрашены светлой краской, сиденья полумягкие с подлокотниками. Правда, «иномарки» были с бензиновым двигателем и горели, как факелы. Кроме того, у них была узенькая база, и поэтому на скатах они валились набок. После учебы были сформированы экипажи, всех погрузили в эшелон вместе с Т-34 и отправили на фронт через Среднюю Азию. Перевезли на пароме через Каспийское море из Красноводска на Кавказ. По дороге с нашего танка ветром сдуло брезент. А надо сказать, что без брезента в танке было туго. Брезент был крайне необходим: им накрывались, когда ложились спать, на нем садились покушать, если грузились в эшелон, им нужно было танк сверху накрыть, иначе внутри было бы полно воды. Это были танки военного времени. На верхнем люке вообще не было никаких прокладок, а на люке механика-водителя были какие-то прокладки, но они не держали воду. Так что без брезента было худо. Так вот, мне пришлось украсть на складе парус, но об этом особенно рассказывать нечего, это же эпизод не боевой, а скорее из области военно-уголовной. Мы вышли на Северный Кавказ, где участвовали в боях за Моздок в составе 2-й танковой бригады. Потом нас перебросили в 225-й танковый полк, который действовал в районе Минеральных Вод и далее на Кубани. Вот тут произошел случай, из-за которого я попал в штрафную роту. Зимой 1942 — 1943 г. танковая бригада в боях за Моздок понесла тяжелые потери. Зимним днем наша колонна после долгого марша вошла в станицу Левокумскую. Отступавшие немцы взорвали за собой мост через Куму, и когда мы подъехали к берегу, то увидели временную бревенчатую переправу, только что наведенную саперами из того, что бог послал. Комбат спросил у саперного начальника: «А танк пройдет?» — «Не сомневайся! — ответил тот. — Гвардейская работа! Но — по одному». Первый танк благополучно прополз по шаткому настилу. Второй, слегка отступив от осевой линии, добрался до середины и вместе с мостом боком рухнул в поток, оставив на поверхности воды только ленивец. Экипаж с трудом, но удалось выловить. После мата-перемата с саперами комбат привел местного деда, взявшегося указать брод. Он усадил деда на свой «Виллис», а поскольку мой танк оказался головным, ему пришлось разъяснить мне всю меру ответственности: «Не особо разгоняйся, но и не отставай. Если что не так, я тебе фонариком посигналю». И мы двинулись полевой дорогой вдоль реки. Стемнело. Фар у нас не было с первого же боя, а даже если бы они и были, светить нельзя, поскольку опасались налета авиации. Поэтому во тьме, не видя дороги, я следовал за прыгающим синим огоньком командирского джипа. Колонна шла за мной. Проехали километров десять. Как стало понятно впоследствии, комбат прохлопал ничтожный мосток через овраг и проскочил его, не остановившись и не просигналив. Вследствие чего наш танк подлетел к нему на доброй скорости. Мосток рухнул враз и не задумываясь. Танк с ходу ударился лобовой броней в скат оврага, перевернулся и сполз на дно кверху гусеницами. Когда я, оглушенный ударом, очнулся, то обнаружил, что погребен под грудой выпавших из «чемоданов» снарядов, пулеметных дисков, инструментов и прочего танкового имущества. Тонкими струйками сверху лилась кислота из перевернутых аккумуляторов. Все освещалось зеленым светом сигнала их разрядки. Сам я был цел, но хорошо помят. Первое, о чем я подумал: «Я раздавил экипаж… » Дело в том, что на марше ребята, как правило, сидели не в машине, а на трансмиссии — на теплом месте позади башни, укрывшись брезентом. Однако оказалось, что все живы, — их швырнуло при перевороте вперед на землю. Теперь командир лейтенант Куц кричал откуда-то снаружи: «Ария! Ты живой?» Затем я выбрался через донный десантный люк. Тут же появился комбат, который, не стесняясь в выражениях, объяснил мне все, что обо мне думает, и приказал: «Оставляю для буксира одну машину. К утру чтоб вытащили танк, привели в порядок и следовали за нами. Не сделаете — расстреляю!» За ночь мы вырыли дорогу наверх, буксиром перевернули свой танк сначала набок, а затем и на гусеницы. При этом его внутренности угрожающе громыхали. Затем мы разгрузили его от железного завала внутри, и я с первой попытки завел его сжатым воздухом. До рассвета оставался час, который мы посвятили перекусу и сну. С рассветом мы двинулись дальше, и к середине дня, поднажав и успешно преодолев обозначенный брод, мы догнали свою колонну, доложились комбату и влились в ее строй. Все четверо мы были изнурены до предела. Я засыпал на своем водительском месте, и мне снился идущий впереди танк. Это было опасно. Лейтенант, видя мое состояние, остался внутри, подбадривая и то и дело толкая ногой в спину. Подменить меня было некому. Командир ссылался на ничтожную практику вождения в училище военного времени, башнер Колька Рылин и радист-пулеметчик Верещагин вообще не обучались этому делу. Так что я в одиночку маялся за рычагами управления, принимая к тому же на грудь поток леденящего ветра, всасываемого ревущей за спиной турбиной вентилятора. На первом же привале, поев каши с ленд-лизовой тушенкой, мы обнаружили в двигателе течь маслопровода: падение в овраг не обошлось без последствий. Решили, что течь незначительна, и, плотно затянув трещинку несколькими слоями изоленты и проводом сверху, тронулись дальше. Еще через пять километров после краткой остановки на перекур двигатель не завелся. Позвали ротного зампотеха. Тот недолго полазил внутри, попытался провернуть турбину ломиком и изрек: «Только кретин мог рассчитывать, что такой манжет удержит масло! Оно все вытекло. Движок ваш сдох, его заклинило». — «Что будем делать?» — спросил лейтенант. «Что будете делать вы — решит командир бригады. А танк в полевых условиях вернуть в строй невозможно, нужно менять движок, для этого нужен стационар. Сидите пока здесь, я доложу, завтра пришлю буксир». Колонна ушла, мы остались в одиночестве. В голой, припорошенной снегом степи мела поземка. Ни деревца, ни кустика, и лишь вдали, в стороне от дороги, пара приземистых сараев — полевой стан. Сидеть в ледяном танке невозможно. Попытались соорудить подобие шалаша, набросив брезент на пушку. Внутри для видимости тепла зажгли ведро с соляркой. Кое-как поели. Через пару часов нас было не узнать от копоти. «Так, — подвел итог лейтенант, — не подыхать же здесь… Идем ночевать туда, — он махнул рукой на черневшие вдали сараи. — Труба там есть, значит, есть печка. Солома тоже наверняка осталась. У машины оставляем пост. Тебе нужно отоспаться (он кивнул мне). Поэтому ты первым и отстоишь полтора часа — и я пришлю смену. Зато потом всю ночь будешь кемарить».  И я остался у танка с ручным пулеметом на плече. Во тьме мучительно тянулось время. Взад-вперед. Взад-вперед. Прислоняться нельзя — смыкаются веки. Но ни через полтора, ни через два часа смена не появилась. Сморенные усталостью, они, видимо, спали каменно. Дал очередь из пулемета — никакого эффекта. Нужно было что-то делать, иначе я просто замерз бы насмерть. Да и ноги уже не держали. Я запер танк и, спотыкаясь, побрел по заснеженной стерне в сторону сараев. С трудом разбудив спавшего на соломе лейтенанта, сказал ему, что так не делают… Был поднят со своего ложа угревшийся, плохо соображавший Рылин и выпровожен с пулеметом за дверь. Не раздеваясь, я рухнул на его место и тотчас провалился в сон. Рылин постоял на холодном ветру — и нарушил присягу… На рассвете мы вышли из сарая, браня проспавшего свою смену Верещагина. Глянули на дорогу — танка нет. Нет танка. Украли. Рылина — тоже нет. Нашли его в соседнем сарае, где он мирно спал, обняв пулемет. Когда ему обрисовали ситуацию, он, как ужаленный, выскочил наружу, проверить. А убедившись, сообщил, что, оказывается, придя ночью на место и обнаружив полную пропажу объекта охраны, вернулся и лег досыпать. На естественный вопрос, почему всех тут же не поднял по тревоге и почему завалился в другой сарай, — объяснил, что не хотел беспокоить… Эта версия, несмотря на полную ее абсурдность, полностью снимала с него немалую вину. Поэтому он стоял на своем твердо и врал нагло, глядя нам троим в глаза. Поскольку опровергнуть эту чушь было, кроме логики, нечем. Крайним для битья оказывался я, бросивший свой пост часовой. И лейтенант Куц как командир, отвечающий за все. С тем и побрели мы по широкому кубанскому шляху, по мерзлым его колеям, с чувством обреченности и без вещей. Протопав в полном молчании километров десять, мы добрались до околицы обширной станицы, где и обнаружили следы своего злосчастного танка. Оказалось, что шустрые ремонтники, приехав ночью и найдя танк без охраны, открыли его своим ключом, а затем и уволокли на буксире. Конечно, они видели полевой стан и понимали, где экипаж, но решили немного пошутить… Эта шутка в сочетании с упорной ложью нашего товарища Рылина обошлась нам дорого. Комбриг за все наши дела приказал отдать лейтенанта Куца и меня под трибунал и судить по всей строгости законов военного времени. Что после недолгого следствия и было сделано. Вот так я попал в штрафную роту. Однако этому предшествовал период перед заседанием военного трибунала, когда я сидел в камере смертников, а затем длительное блуждание по Кубани. У нас были одни документы на троих, и лейтенант Куц и еще один осужденный, бросив меня, подались в бега. Я остался один и без всяких документов. Все последующее было похоже на дикую авантюру с чрезвычайно тревожной перспективой. После долгих скитаний мне все-таки удалось найти эту роту в районе Таганрога. В ней было примерно сто пятьдесят таких же бедолаг, как и я. Вооружены мы были только винтовками. Ни автоматов, ни пулеметов у нас не было. Все офицеры были строевыми, не штрафниками, а рядовой и младший командный состав — штрафники. Живыми из штрафбата выходили либо по ранению, либо в том случае, если в ходе боя ты заслужил одобрение командира и он сделал представление о снятии судимости. Я участвовал в разведке боем. Атака — это тяжелейшее испытание. Ты знаешь, что в тебя могут попасть, а ты вынужден идти навстречу выстрелам. Ты лежишь и видишь, как светящаяся полоса пулеметного огня опускается все ниже, ниже к тебе, вот сейчас она до уровня твоего тела дойдет и разрежет тебя пополам. Ну, короче говоря, война есть война, что тут толковать. Ситуация была «либо пан, либо пропал», и я старательно выполнял боевую задачу. После этого боя меня представили к снятию судимости и направили в строевую часть, а оттуда откомандировали во 2-й запасной армейский полк, располагавшийся в городе Азов. Там меня зачислили в команду кандидатов в танковое офицерское училище. Но я уже знал, что это такое быть командиром танка, поэтому я оттуда дезертировал. Я просто удрал. Что значит быть командиром танка? Это отвратительно! Это все равно что быть солдатом, но ко всему прочему еще и отвечать за всех. Я вообще не хотел быть офицером! Поэтому, когда в ЗАП приехали «купцы» набирать в какую-то артиллерийскую часть, я просто закинул вещмешок в грузовик и уехал. За это в то время меня к стенке могли бы поставить, но обошлось. Потом, когда приехали на передовую, оказалось, что это полк «катюш». Это была удача! Там хорошо кормили, прекрасно одевали, потери там были значительно меньше. Я был рад-радешенек, что попал в такую прекрасную часть. Некоторые время я был мотоциклистом, связным при штабе полка. Командование потому и отнеслось снисходительно к моему самовольному появлению, что у них был мотоцикл, а мотоциклиста не было. Правда, мотоцикл месяца через два-три погиб, его расстреляли на ходу, но сидел на нем не я. После этого меня перебросили разведчиком в дивизион. Чего на фронте опасались больше всего? Смерти опасались. Там смерть витала ежедневно, ежечасно. Можно было спокойно сидеть, чай пить, и на тебя сваливался шальной снаряд. Привыкнуть к этому было совершенно невозможно. Это не значит, что был безостановочный мандраж, что все ходили и оглядывались. Просто смерть прилетала или не прилетала. Страшно попасть под массированный авиационный налет. Ощущение было такое, что каждая бомба летит тебе прямо в голову. Это было ужасно! Помню, Некрасов был — он почти рехнулся. Когда кончился очередной налет, его никак не могли отыскать. Потом нашли в каком-то окопе. Так он отказывался выходить! А какой ужас стоял в его глазах! Некоторые носили талисманы, крестики, которые должны были помочь выжить. Были люди, которые предчувствовали смертельную опасность. Например, в нашем подразделении был мордастый грузин Кондрат Хубулава. Он раза два меня от смерти спасал, ну и себя, соответственно. Первый раз нас послали куда-то установить связь со стрелковым полком. Вот мы с ним идем по ходам сообщения, а он мне говорит: «Дальше не пойдем». Я говорю: «Почему?» — «Не пойдем, постоим здесь!» Мы остановились, и через несколько секунд прямо в траншею за поворотом упал снаряд! То есть нас там должно было убить! Второй раз мы стояли с ним во время бомбежки в разрушенном доме. Он мне сказал: «Выйдем отсюда и перейдем в другой угол». Мы перешли. В тот угол, где мы были, ухнула бомба. Вот такие вот странные вещи происходили. Предчувствие… Я этим не обладал. Остается добавить, что через много лет после войны я попытался выяснить дальнейшую судьбу членов моего экипажа. Но Центральный архив Министерства обороны не располагал такими сведениями. ПОЛЯНОВСКИЙ ЮРИЙ МАКСОВИЧ
Я учился в восьмом классе, когда при Дворце пионеров открыли школу юных автомобилистов. Вечером, после учебы, в течение двух лет я учился в этой школе на шофера. 21 июня 1941 года я, поскольку мне шел только семнадцатый год, получил временные права, а на следующий день началась война. Мой отец, довольно известный писатель, ушел добровольцем на фронт, а на меня возложили обязанность отвезти в эвакуацию в Йошкар-Олу, или, как ее называли, «Кошмар-дыру», детей друзей. Правда, я поставил условие, что выполню это поручение, только если потом он меня заберет на фронт. Вскоре по прибытии в эвакуацию мне прислали вызов в 52-ю армию Волховского фронта. Приехал, предъявил справку об окончании школы водителей, и меня взяли шофером на полуторку. Вскоре отца перевели в политотдел 1-й гвардейской дивизии, которая тогда находилась под Воронежем. Меня без отца в 52-й армии не оставляли и в итоге направили в Пушкинское автомобильное училище. Так совпало, что, когда я прибыл в это училище, его переформировали в танковое. Проучился я в нем около года, а когда под Сталинградом создалось угрожающее положение, нас выпустили. Вот так в семнадцать с половиной лет я стал младшим лейтенантом, командиром танка Т-34. Свой первый танк я получал в Нижнем Тагиле, но, когда приехал на фронт в танковый полк, его у меня отобрали и отправили обратно на завод. Во второй раз я попал в Челябинск. При каждом танковом заводе были запасные танковые полки, в которые вливался разношерстный народ со всех сторон: из училищ, из госпиталей, с фронта. В этом общем котле формировали экипажи. Во втором моем экипаже заряжающий был на два года старше моего отца, старый питерский рабочий, который хорошо воровал кур. Сформированные экипажи «пешим по-танковому» отрабатывали действия в составе взвода и роты, после чего на полигоне им давали практику вождения и стрельбы. Получили танки, погрузились в эшелон и отправились на фронт. Разгружались под Харьковом в августе месяце 1943 года. Загрузили снаряды, заправились и пошли в бой в составе 2-го батальона 24-й бригады 5-го мехкорпуса 5-й гвардейской танковой армии. Когда Харьков взяли, нас перебросили на Полтавское направление. Там, под селом Коротыч, я первый раз попал в передрягу. Наша задача состояла в том, чтобы перерезать шоссейную дорогу Харьков — Полтава. Для этого надо было пересечь железную дорогу, которая шла по высокой насыпи параллельно шоссе, примерно на десять километров севернее. Эту насыпь обойти было невозможно, и наш батальон скопился у единственного переезда. Как только танк пытался проскочить через переезд — шлеп, машина готова. Мой танк оказался очередной жертвой. Меня предупредили, что после переезда по дороге идти нельзя — заминировано, и я, проскочив переезд, взял левее. Только чуть прошел вперед — мне в моторное отделение залепили снаряд. Боевое отделение заполнилось дымом, танк встал, а раз встал, значит, надо выпрыгивать, иначе убьют. Дал команду: «Покинуть машину через верхний люк». Мы выскочили и поползли к своим. Радист не полез через верхний люк — решил вылезти через донный. Потом, когда танк достали, оказалось, что его убили. Вышли в расположение батальона. Подходит ко мне контрразведчик: «Танк сгорел или нет?» — «А вам-то что?» — «Мы должны ночью посылать тягач вытаскивать его. Если сгорел — какой хрен его тащить. Если не сгорел — тебя надо отдать под суд, поскольку ты бросил машину. Что будем делать?» — «Ночью я сам сползаю, посмотрю, как он себя чувствует». Мы ночью полезли, молили бога, чтобы танк сгорел, чтобы немцы его добили. Добили. Был у нас один горьковчанин, Саша Бередин. На фронт его провожала молодая красивая жена с грудным ребенком. Ему повезло — он попал на командирский танк с двумя радиостанциями, который стал танком командира бригады. А командир бригады все же немножко в тылу руководил боем с этого танка, используя его как командный пункт. На этом переезде танков погибло много, так что и посылать уже некого было. И тогда командир бригады послал свой танк. Я Саше говорю: «Смотри, ни в коем случае по шоссе не двигайся, хотя оно пустое — взорвешься. Лучше справа попробуй, я пробовал слева — меня разбили». Он пошел, да, видно, как увидел впереди открытое шоссе и рванул… но не далеко — на фугас наскочил, и танк взорвался. После боев пошли искать тело — лежит такое сплющенное… Я болтаюсь в резерве батальона без танка: от батальона остался взвод, который поставили в засаду, видимо, ждали контратаки немцев. В это время командир одного из оставшихся танков вышел оправиться. И надо же такому случиться, чтобы осколками разорвавшейся рядом мины ему поцарапало зад. Его отправили в госпиталь, а мне сказали, чтобы принимал машину. Залез на танк, постучал, люк открыли: «Я ваш новый командир». Вскоре исправные танки передали в 29-ю бригаду, стоявшую примерно в пяти километрах от нас. На всю жизнь запомнилось местечко Барминводы, которое мы проходили по дороге в эту бригаду. Там стоял медсанбат — девчонки на рояле играют, танцуют… Мы остановились, вылезли, потанцевали. Знаешь, как в песне: «Хоть я с вами совсем не знаком… » Пока до 29-й бригады шли, ее уже разбили. В районе города Валки нас остановили какие-то пехотинцы — у них артиллерия сильная, а танков нет. По закону мы не обязаны с ними работать, но они говорят: «Оставайтесь, мы вам спирта подкинем». В общем, обхитрили нас, ведь три танка погоды не сделают: у немцев «тигры» в посадках замаскированы, артиллерия. На рассвете 2 сентября наши три танка отправили в разведку боем — это по-военному так называется, а фактически — на убой. Хорошо, что перед этим я своим ребятам выпить запретил, хотя пехотинцы слово сдержали и спирту налили (у нас в батальоне был случай, когда экипаж, будучи выпивши, задохнулся в танке, когда тот был подбит и задымился). Мы пошли. Немцы открыли огонь. Мы тоже стреляли, только непонятно куда. Я то смотрел в перископ, то наклонялся к прицелу. И когда я смотрел в прицел, тут мне и влепили. Снаряд пробил башню над моей головой, меня не задел, но куски брони попали мне в голову, шлем порвали, повредили череп. Я упал на боеукладку на брезентовый коврик, а тут еще огонь пошел, поскольку они следом врубили в моторное отделение. Через много времени я узнал, что заряжающему разбило голову, и он тоже упал. Механик-водитель и радист посмотрели, что командир и заряжающий лежат с разбитыми головами. Им же непонятно было, что я только ранен. Они решили сматываться, им повезло — немцы, увидев, что танк горит, перестали за ним наблюдать, и они выскочили. Коврик, на который я упал, начал тлеть. Огонь дошел до тела — припекло, и я пришел в сознание. Первая мысль: «Огонь может дойти до снарядов, тогда каюк». Я вылез через люк механика-водителя, немного прополз назад и потерял сознание. Только когда наша пехота пошла в атаку, меня нашли, вытащили. Оклемался я довольно быстро. И вот как-то днем стою я на крыльце и вижу, как из ворот танкоремонтной базы, что располагалась неподалеку, выезжает танк с опознавательными знаками соседнего батальона. Кинулся к танкистам: «Ребята, куда едете?» — «Гоним танк в батальон из ремонта». — «Заберите меня с собой». — «Давай». Сел на танк и уехал без всяких документов. Приехал в бригаду, доложился, а меня ждет письмо от отца: «Стоим в Купянске, в 100 км от Харькова». Я пошел к командиру: «Я после ранения еще не совсем здоров, отпустите меня». Контрразведчик меня поддержал: «Парень нормальный, отпусти на пять дней». — «Вернешься?» — «Конечно!» До Купянска я добирался сутки: «Да, стояли, но ушли в село Студенок». Я туда еще сутки. Когда туда добрался — они ушли на Донбасс. Я туда — ушли в Днепропетровскую область. На пятый день я их нашел, а отца нет — вызвали в политуправление в Москву. А что мне теперь делать? Меня могут под суд отдать. Повели к генералу Руссиянову: «Оставайся, я дам шифровку. До приезда отца побудешь в штабе корпуса адъютантом у зампотеха». — «Нет, не надо. Отправьте меня в бригаду». Вот так 9 октября 1943 года я очутился во 2-м батальоне 9-й Запорожской танковой бригады 1-го гвардейского механизированного корпуса. Дали мне танк, а уже 13-го я участвовал в освобождении Запорожья. Нам тогда пообещали, что если мы успеем захватить Днепрогэс, то все получим звание Героя Советского Союза. Так что мотивация была будь здоров! Атаковали мы ночью при свете фар. Перед самим городом был ров, заполненный водой. В этот ров пустили танковые тягачи — танки без башни, а по ним, как по мосту, на другую сторону переправились танки. Ворвались в город. Немцы перешли на остров Хортица по плотине, взорвав часть ее вместе с войсками, не успевшими переправиться. Мы подавили тех, кто остался с нашей стороны, и на том запорожская эпопея кончилась. После этого 1-й гвардейский мехкорпус отвели на отдых в Полтаву. А нашу 9-ю бригаду, 20-й танковый полк и мотострелковый батальон из 3-й мехбригады отправили вверх по течению Днепра к Новомосковску. Маршем прошли около сотни километров, форсировали Днепр и пошли на запад. Куда идем — не знаем, немцы сопротивления не оказывают. Меня освободили от должности командира танка и назначили офицером связи при штабе бригады, которой командовал подполковник Мурашко, храбрый мужик. Мы дошли до железной дороги Херсон — Знаменка, проходившей в ста километрах от Днепра. Перерезали ее в районе станции Чабановка. В нескольких километрах от нее заняли оборону. В совхозе «Шаровский» встал штаб бригады, один батальон пошел на село Павловка, другой — на Кировоград. Город они, конечно, не заняли, но обстреляли. Вскоре я, как офицер связи, получаю задание отвести вновь прибывших офицеров, старшего и младшего лейтенантов, во 2-й батальон, что стоял в двух-трех километрах от села Павловка. Идем. Смотрим — в заболоченной низинке стоит брошенный танк 1-го батальона. Видно, что он был забросан камышом, который сгорел, экипажа близко нет. Рядом у небольшого шалаша сидит старик. Мы у него спрашиваем: «Чья это машина?» — «Ребята замаскировали, а когда немцы зажигательными пулями стали стрелять, они ее бросили и убежали». — «Немцы к ней подходили?» — «Нет». Тогда я этим двум офицерам говорю: «Что мы пешком идем, давай поедем». Кузменко, старший лейтенант: «Не надо!» — «Нет! Поедем!» Залез в танк — аккумулятор сел — я тогда воздухом завел. Подъезжаем к деревне, стоит замкомбат, капитан Козин: «Вот, пригнал машину». — «Хорошо. А то мы один танк потеряли в болоте, так мы про него докладывать не будем». — «А мне что делать? У меня же нет экипажа?!» — «Возьми младшего лейтенанта, ты будешь стрелять, он заряжать. Езжай в роту Кардаева, он двумя танками в засаде стоит. Ты к ним присоединяйся». Приехали в роту, отрыли капонир. Вдруг из села Митрофановка на нас вышла армада танков. До пятидесяти танков шло на нас! А у нас три танка! Горючего нет! Как заправили в Новомосковске, так и все! Стали стрелять. Что-то подбили. Штаб написал, что восемь танков мы подбили. Точно не знаю, но что-то горело. Они нас быстро окружили. Мы побросали танки, орудийные затворы выкинули и бежать. Я отстреливался из пистолета, пока патроны не кончились, потом выбросил его, оставшись с одной гранатой. Решил: «Подорвусь, но в плен не попаду». Меня настигает немецкий бронетранспортер, стреляет — мимо, пули рядом прошли. Я инстинктивно упал. Видимо, они подумали, что я убит, или я в мертвой зоне оказался, поскольку стреляли они почти в упор. Короче, проехали они мимо меня. Вот так я оказался в окружении, а ребята успели выскочить. Когда бой затих, я встал и пошел на восток. К ночи подошел к станции Чабановка, невдалеке от нее увидел костерок и пошел на него. Сидят у костра русский парень с женой, готовят еду. Познакомились, железнодорожный рабочий Иван Пахомов, так звали парня, говорит: «Ты чего тут ходишь в форме? Пошли переодеваться». Отвел меня в подвал: «Снимай все свое. На тебе робу. Будешь говорить, что ты рабочий». Только переоделся, и немцы на мотоцикле подкатывают. Обошлось. Иван мне говорит: «Мы идем к железнодорожному разъезду, там живет сестра моей жены. Пойдешь с нами». У него был аусвайс и синяя повязка рабочего, которую он отдал мне. Добрались до разъезда. Муж этой женщины, Саша Чапорев, мне сказал: «Будешь говорить, что ты мой брат, жил в Кривом Роге, русские наступают, и тебе пришлось бежать». Утром пошли все вместе на работу. Мельнечук, бригадир, почувствовал, что я не тот, за кого себя выдаю, но прикрывал меня. Вот так шесть недель я работал на железной дороге. Немцы прочесывали, ловили окруженцев. При мне притащили сержанта Осипова, адъютанта командира бригады. Мне удалось с ним немного поговорить. Он рассказал, что погиб командир бригады Мурашко. Постепенно фронт наступал. Однажды немцы дали команду всем дорожным рабочим эвакуироваться. Подогнали вагонетку с тротилом, взорвали каждую рельсу с двух сторон, а шпалы перерубили. Видя, что немцы бегут, мы, шесть человек, решили укрыться в землянке, недалеко от разъезда, где рабочие хранили инструмент. Мы спрятались, но, дураки, трепались в голос, нас услышали и вытащили. У всех, кроме меня, были немецкие документы, которые ребята предъявили, а мне нечего предъявлять. Бригадир Мельнечук, хорошо знавший немецкий, меня выручил — сказал, что он у меня на продлении. 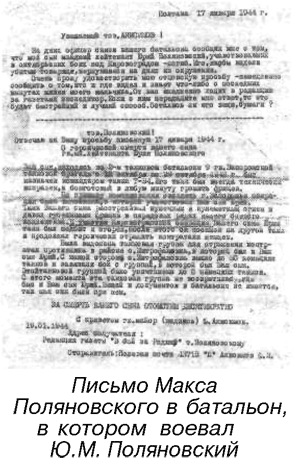 Повели нас вдоль железной дороги до разъезда, где загнали в будку стрелочника, в которой с трех сторон были окна. У стены стояла лавочка, на которой расположились наши конвоиры, а рядом была вырыта глубокая траншея на случай бомбежки. Конвоиры уселись и гутарят по-немецки. Мельнечук нам переводит: «Думают, что с нами делать. В штаб вести далеко — двенадцать километров, вдруг русские настигнут. Если отпустить, то русские нас сразу же призовут в армию. Надо расстрелять». В это время пролетавший над нами штурмовик, увидев немцев, дал по ним очередь и полетел дальше, а они от страха в траншею прыгнули. Мы сиганули в окно и бежать. Немцы, наверное, были рады, что мы убежали, — проблем меньше. Слышим через некоторое время отборный русский мат — наши! Я сразу скумекал — ребят через несколько дней заберут в армию, и я никогда не докажу, что я с немцами никакого дела не имел. Пошел в контрразведку одного из подразделений 5-й гвардейской армии, все объяснил, и меня тут же посадили в подвал. Потом гоняли из одной деревни в другую: «Ладно, ты у немцев в руках не был — распишись. А все-таки, какое тебе задание дали немцы?» Мурыжили меня недели три, на дворе зима — декабрь месяц, а я был очень легко одет. С нами сидел мужик с окладистой черной бородой в шикарном кожухе. Я бы замерз насмерть, если бы он не взял меня под бок, под кожух. Он был старостой в селе, и, когда пришли наши, те, кто был им недоволен, немедленно его заложили. Он мне рассказывал: «Я не мог, конечно, не выполнять приказы немецкого командования, но я старался их по мере возможности саботировать. Я и с партизанами был связан, да они сейчас далеко. Что делать?» А потом его увели и не привели. Конвойного спросил — говорит, перевели в другое место. А потом меня на допрос вызвали — выхожу, а он висит. Представляешь? Я уже замерзать стал, думал, может, он кожух принесет… Когда отец узнал, что я нашелся, он приехал в Новую Прагу с письмом от Руссиянова о направлении меня на проверку в 1-й гвардейский мехкорпус. Приехал в Полтаву, где размещался корпус. Меня сразу отпустили и назначили в механизированную бригаду заместителем командира стрелковой роты. Постепенно все улеглось. Правда, у меня начали гноиться раны, которые я еще летом получил, и пришлось ходить на перевязку в санитарный батальон. Однажды возвращаюсь из медсанбата, подходит ко мне офицер: «Товарищ младший лейтенант, вас вызывает председатель трибунала подполковник Дедов». Затащили меня туда. Председатель мне говорит: «Будешь народным заседателем на суде». — «Я же сам только вышел!» — «Ничего». Поймали еще одного, такого же, как и я, офицера, и вот мы исполняли обязанности народных заседателей. Судили двоих — ни за что ни про что. Я после заседания сказал, что протоколы не подпишу, потому что в первом случае стояли двое часовых на складах, и одного часового убили, другой остался живой. Кто-то стрелял. Так того обвинили, что он убил. Причем никаких доказательств его вины не было. Мне говорят: «Подпиши, его в штрафной батальон отправим». — «Нет, не подпишу». А другой парень был с Западной Украины, и когда немцы были там, то крестьян сгоняли: «Бери лошадь, вези камень, делай то-то». Когда наши освободили территорию, его призвали в армию, и он кому-то рассказывал, как немцы заставляли его что-то возить. Ему пришили, что он служил у немцев, и присудили к расстрелу с заменой штрафным батальоном. Там же все население работало! Он же с немцами не ушел! За что же его судить?! Ведь тогда и меня надо судить! Я же, по сути, сам у немцев на железной дороге работал! В общем, все непросто было. Меня же тоже потаскали, но я ни одной минуты не обижался на саму контрразведку. А вскоре меня повторно арестовали. Получилось вот что. Видимо, перед тем как наш корпус, который год простоял в Полтаве, отправить на фронт, в дивизию пришла шифровка: направить всех неблагонадежных на проверку. Наш начальник контрразведки и мой отец, начальник политотдела, были вызваны в Москву. Вместо него оставался Киселев, заместитель начальника политотдела. Мы с ним сошлись на одной бабе. Была у нас Верочка Смирнова, к которой бил клинья этот Киселев. Не сказать, чтобы она была красивая, но тогда для нас все были красавицы. Мы с ней познакомились в клубе, подружились, интима не было. Как-то вечером приехал к ней, остался ночевать, а тут он приперся. Она, чтобы отбрехаться, говорит: «Вот мой жених». — «Покажи!» Я вышел. Так вот, чтобы от меня избавиться, он включил меня в список неблагонадежных. Ночью 12 ноября 1944 года лежу в хате. Не один — с медсестрой. Стучат. Хозяин открывает: «Где такой-то?» Меня арестовывают, а ей говорят: «Беги, никому ничего не говори». Пихнули меня в тюремный вагон и повезли в Харьков. Там разместили нас на тракторном заводе, где у немцев был лагерь для военнопленных, а наши приспособили его под фильтрационный. Побыли мы там недолго, и нас перевели в Щербинку, под Москву, в 174-й спецлагерь для проверки офицеров, которые были в плену и окружении. А оттуда было всего два выхода — либо в тюрьму, либо в штрафбат, рядовыми. Обращались, правда, с нами прилично. В туалет водили. Не запугивали, но контрразведчики все время старались поймать на противоречиях. В небольшой камере нас было шестьдесят четыре человека — кто на нарах, кто под нарами. На полу можно было лечь только боком. Хотя была зима, барак не топили — все равно было жарко — все дышали и пукали, кормили-то только гнилой капустой. Однажды вызывают меня к следователю: «Документы пришли. Все в порядке, тебя надо выпустить. Но ты уже сколько времени потерял, пока сидел, поэтому пойдешь в штрафной батальон. Ты танкист? ДТ знаешь?» — «Знаю». — «А пехотный он такой же, только с сошками. Будешь пулеметчиком в звании рядового. Искупишь — вернут звание». Я все пытался сообщить своим на волю, где я нахожусь. Чудом мне удалось передать записку своей тетке, а та отнесла ее начальнику штаба бронетанковых войск генералу Маркову, которого через отца я знал лично. Естественно, он принял меры, и 31 декабря 1944 года меня отпустили. Явился к Маркову. «Полтора месяца будешь учиться на техника, отдохнешь от лагеря, а потом отправляйся в корпус». Полтора месяца проучился и ранней весной 1945 года был направлен в 382-й гвардейский самоходный полк заместителем командира самоходной батареи СУ-100 по технической части. С боями дошли до Альп и закончили войну за Баден-Баденом. Когда кончилась война, моя 9-я бригада стояла в Линце. Они захватили огромное количество немецких автомобилей: грузовых, легковых — всяких. Мне, как зампотеху, дали распоряжение съездить в бригаду и отобрать автомобили для нужд полка. Я приезжаю туда 9 мая, встречает меня мой знакомый, заместитель командира батальона по технической части, Макс Иванов: «Да брось ты на хрен эти машины, садись, по кружке с союзниками выпьем. Потом поедешь». А у них уже сидят американцы, стоит бочка трофейного спирта — все готово, чтобы отмечать Победу. Я говорю: «Если я выпью, я охмелею и там ничего не выберу. Выберу, потом приду — выпью». Пошли выбирать. Слышим крик-шум. Прибегаем — а они там валяются, пена изо рта идет, некоторые уже совсем дошли, некоторые ослепли. Оказывается, в бочке был антифриз на метиловом спирте. Налакались этого антифриза и начали подыхать. Погибло восемнадцать американцев и двадцать два человека наших. Это в День-то Победы! Вот такая история… 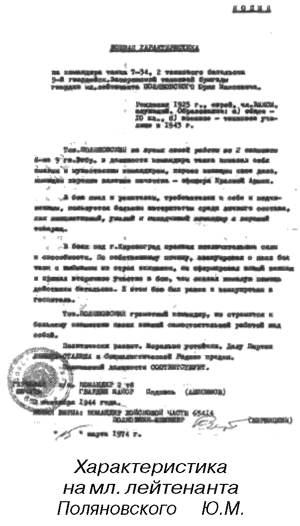 ФАДИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 Родился я в деревне Князевка Арзамасского района Нижегородской области 10 октября 1924 года. В воскресенье, 22 июня 1941 г., я проснулся поздно, где-то часов в десять утра. Умывшись и с ленцой позавтракав черным хлебом, запивая его кружкой чая, решил поехать к своей тетке. Приехав к ней, я увидел ее заплаканной. Расспросив, узнал, что началась война и ее супруг Павел ушел в военкомат записываться добровольцем в Красную Армию. Наскоро попрощавшись, я решил не задерживаться и направился в общежитие Горьковского речного училища, где я в то время учился. По дороге в трамвае разговор шел о войне, о том, что она долго не продлится. «Напала Моська на слона», — сказал один из пассажиров. Во вторник, 24 июня, я пошел в военкомат. Площадь перед ним была забита людьми. Каждый стремился попасть к военкому. Не знаю каким образом, но мне удалось проникнуть в коридор военкомата, где меня встретил политрук. На его вопрос, зачем я пришел, я ответил, что хочу на фронт. Узнав, сколько мне лет, он мне сказал: «Знаешь, парень, иди и продолжай учиться, войны для тебя еще хватит, а пока видишь, сколько народу, у нас есть, кого призывать». Примерно через месяц я опять отправился в военкомат. Послушав совет своего друга, я прибавил себе два года. Получил медицинскую карту и, пройдя медицинскую комиссию, был зачислен во 2-е Горьковское автомотоциклетное училище. Нас направили в Ильино, где после ужина объявили, что мы входим в состав 9-й роты третьего мотоциклетного батальона. На другой же день начались занятия. Мы изучали воинские уставы, учились ходить с песнями в составе роты. Винтовки из досок были изготовлены лично каждым. 7 августа 1941 года нас привели к присяге, впервые помыв в бане и выдав летнее воинское обмундирование. Вскоре нам вручили боевое оружие. Изучение мотоциклов мы начали с модели «АМ-600» с коляской и «ИЖ-9», а затем перешли к изучению только что принятых на вооружение мотоциклов «М-72». Проведя несколько занятий по теории, нас повезли на автодром на вождение. В то время велосипед был роскошью, доступной не каждому мальчишке, и многие не умели кататься. Поэтому их вначале научили ездить на велосипедах, а уж потом посадили на мотоцикл. Зима 1941 года выдалась очень суровой. В декабре морозы зачастую доходили до 42 — 45 градусов. Холодрыга была страшная. Температура в классах была ненамного выше, но если в поле на тактических занятиях и стрельбах мы могли согреваться пританцовывая, то в классе надо было сидеть, не двигаясь, слушая педагога. К тому же одеты мы были довольно легко: буденновский шлем, хлопчатое обмундирование, шинели, кирзовые сапоги с теплыми портянками, летнее нательное белье и варежки с одним пальцем. К этому времени дорога от железнодорожной станции, занесенная снежной пургой, сделалась непроезжей, что исключило в течение декабря подвоз продуктов питания. Поэтому весь месяц нам выдавали два сухаря, вместо положенных нам семисот грамм хлеба, и пять кусочков сахара в день, а завтрак, обед и ужин состояли из миски свекольного супа. И тем не менее мы не унывали, будучи уверенными, что это временные трудности. В конце ноября 1941 г., когда немцы подошли к Москве, весь состав 2-го Горьковского автомотоциклетного училища написал письмо Главнокомандующему Сталину с просьбой послать нас на фронт. Спустя всего два дня в адрес училища пришла от него ответная телеграмма, в которой он поблагодарил весь состав училища, однако указал, что мы еще понадобимся Родине позже, а пока требовал, чтобы мы учились и лучше готовились к грядущим боям. Из этой телеграммы мы поняли, что Москву не сдадут, а это было самым главным. И действительно, через несколько дней началось наше контрнаступление. В марте после восьмимесячного курса обучения на командиров мотоциклетных взводов училище направило на фронт около четырехсот человек. Нам же, курсантам 3-го мотоциклетного батальона, было приказано продолжить учебу, но уже по программе командиров автомобильных взводов. Курс обучения на автомобилистов мы закончили только в июне 1942 года, а в конце июля нас повезли на практику в Москву, на завод «Марз-3», откуда, пройдя стажировку, мы вернулись в училище и начали готовиться к выпускным экзаменам. В конце августа посреди ночи объявили боевую тревогу, и всех курсантов направили в санитарную часть училища на очередную медкомиссию. Отобранной сотне человек, среди которых был и я, зачитали приказ Верховного Главнокомандующего о переименовании училища во 2-е Горьковское танковое училище. Не прошедшие медкомиссию выпускались автомобилистами. Мы, молодежь, кричим: «Ура!» А те кто постарше, кто воевал на Халхин-Голе и на финской, освобождал Западную Украину, Белоруссию, говорят: «Что вы радуетесь? Будете гореть в этих железных коробках». Мы уже были хорошо подготовлены по программе автомобилистов, и переход на изучение танка нам дался легко. В первых числах апреля 1943 года приехала Государственная комиссия принимать первый выпуск училища. Экзамены по огневой подготовке и материальной части считались основными, и если ты их сдавал на «хорошо», то присваивали младшего лейтенанта, а если на «отлично», то лейтенанта. Материальную часть я сдал на «отлично». Предстоял экзамен по огневой подготовке. По программе полагалось стрелять с коротких остановок. «Отлично» ставили, если выстрел произведен меньше чем за восемь секунд, «хорошо» — за девять, «удовлетворительно» — за десять, ну, а если больше задержался — «неуд». Но я, наверное, первый в училище начал стрелять с ходу. Поначалу мы тренировались наводить орудие на примитивном тренажере — качалке, которую раскачивали сами курсанты. Потом нас выводили на полигон с оборудованным на колхозном поле огневым рубежом. Мишень для стрельбы из орудия таскали трактором на тросе длиной метров триста. А стреляли мы с 1200 — 1500 метров. Все боялись, как бы в трактор не попасть. Командиром батальона у нас был майор, фронтовик, без правой руки. Он нас учил: «Остановки надо делать короче, а лучше не останавливаться». Когда я первый раз сказал ребятам, что буду стрелять с ходу, командир роты предупредил, чтобы я не дурил, но я все же решил попробовать. Получилось! С первого выстрела поразил танк! Меня остановили. Командир роты, старший лейтенант Глазков, бежит: «Ну что, разгильдяй, я же тебе говорил! А если бы не попал?» Начал меня отчитывать. Подъезжает командир батальона: «Кто стрелял?» — «Да вот курсант Фадин, несерьезный». — «Что?! Да он молодец! Вот так, командир роты, учи стрелять, как он стрелял, с ходу!» И вот на экзамене мне разрешили стрелять с ходу, но экзаменатор, полковник, предупредил: «Имей в виду, если ты не попадешь всеми тремя снарядами, то ты не получишь и младшего лейтенанта, а получишь старшего сержанта». Сел в танк. Механик — опытный инструктор. Получив команду: «К бою!», я сразу сел за прицел. Только подошли к огневому рубежу, механик говорит: «Подожди, подожди, сейчас будет „дорожка“». А я поймал мишень, выстрел — кормы нет! Вторую цель, пехоту, тоже накрыл. Это был фурор! Вернулись на исходную, полковник подбегает, жмет руку, снимает и дарит мне свои часы. Но из курсантов никто не стал стрелять так, как я, — это же риск. 25 апреля 1943 года мне было присвоено звание лейтенанта, а в начале мая нас отправили в 3-й запасной танковый полк при заводе № 112. В мой экипаж вошли, кроме меня, командира: механик-водитель старший сержант Василий Дубовицкий, 1906 года рождения, бывший в 1936 году личным шофером М. И. Калинина (когда я его стал расспрашивать, как его сюда занесло, он ответил: «Лейтенант, там все в карточке записано» — и ничего не сказал), командир орудия младший сержант Голубенко, 1925 года рождения, и радист-пулеметчик младший сержант Вознюк Василий, одессит, 1919 года рождения. К концу мая 1943 года подготовка нашей маршевой роты подходила к концу. Примерно 30 мая мы получили на заводе новехонькие танки. Маршем прошли на них на наш полигон, где заранее для нас была установлена мишенная установка. Быстро развернулись в боевой порядок и осуществили атаку с ходу с боевой стрельбой. В районе сбора привели себя в порядок и, вытянувшись в походную колонну, пошли на погрузку для следования на фронт. На рассвете одной из ночей где-то в конце второй половины июня эшелон выгрузился на станции Марьино Курской области. Маршем прошли несколько километров до какой-то рощи, где влились в состав потрепанного в оборонительных боях 207-го батальона 22-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского Сталинградского танкового корпуса. 14 июля около полудня, позавтракав и осмотрев боевые машины, мы получили команду построиться поротно. Здесь в наши ряды по списку, зачитываемому начальником штаба батальона, стали входить воины, уже имевшие боевой опыт, а прибывшие с эшелоном, ранее не участвовавшие в боях, выходили из строя и направлялись в резерв. В результате такой переформировки я из командиров танковых взводов стал командиром танка Т-34. А на следующий день, 12 июля, пошли в наступление. Взвились три красные ракеты. Пройдя несколько сот метров, мы увидели выдвигающиеся немецкие танки. Обе стороны открыли огонь. Через наши головы пронеслись ракеты «катюш», и немецкая оборона окуталась облаком пыли. Тут мы сошлись. Я не мог себе представить, что можно попасть в такую бестолковую, но при этом организованную с двух сторон мясорубку. Только бы не затеряться и не наскочить на один из соседних танков. После первых двух выстрелов появился азарт: поймать в прицел танк противника и уничтожить его. Но только во второй половине дня мне удалось поразить T-IV, который сразу же загорелся после моего попадания. А еще чуть позже я подловил на ходу бронетранспортер с флажком на правом крыле и влепил ему два осколочно-фугасных снаряда, от взрывов которых разлетелись огненные брызги. Здорово получилось! И опять движение в атаке вперед, стараясь не разорвать боевой линии нашей роты. К исходу 12 июля немцы начали организованный отход, и уже в сумерках мы овладели Чапаевым. К рассвету у нас в бригаде осталось восемнадцать из шестидесяти пяти танков. Помылись, перекусили хотя есть особо не хотелось, и опять в бой. Для меня наступление закончилось 16 июля, когда наш танк получил два попадания и загорелся. К этому времени в бригаде оставалось четыре или пять исправных танков. Мы шли кромкой поля подсолнухов. Представь себе — четвертый день наступления, почти без сна, вымотанные… Первый снаряд попал в опорный каток, выбив его, а следом залепили в двигатель. Мы выскочили и скрылись в подсолнухах. Возвращаясь к своим, я увидел метрах в трехстах четыре танка Т-34. Только хотели выйти к ним навстречу, механик меня хватает «Стой, лейтенант, стой! Видишь, кресты на них! Это же немцы на наших танках». — «Твою мать, точно». Наверное, эти танки и подбили нас. Залегли. Подождали, пока они пройдут, и пошли дальше. Шагали часа полтора. Случайно наткнулись на начальника штаба батальона, он потом погиб под Киевом «Молодец лейтенант, я уже представил тебя к званию гвардейца»… А что ты думал?! Если в гвардейском корпусе, так сразу гвардеец?! Нет! После первого боя, если ты смог доказать, что можешь воевать, только тогда присваивали звание. Из шестидесяти двух выпускников училища пришедших вместе со мной в корпус, после четырех дней наступления осталось только семь, а к осени сорок четвертого года нас оставалось только двое. Мы попали в резерв батальона, где несколько дней хорошенько отдохнули и, главное, отъелись хотя в 1943 году в училище кормили более или менее нормально, однако накопившееся недоедание сорок первого — сорок второго годов давало о себе знать. Вижу, как в мой котелок повар наливает первое и накладывает второго столько, что в мирное время я никогда бы не съел, а глазам кажется, что пусть кладет побольше, все равно съем. А затем началась подготовка к Белгородско-Харьковской наступательной операции. Танк мне не дали, а назначили офицером связи штаба бригады. В этой должности я провоевал до 14 октября, когда мне было приказано принять танк погибшего гвардии лейтенанта Николая Алексеевича Полянского. Надо сказать, что я очень благодарен начальнику штаба бригады гвардии майору Михаилу Петровичу Вощинскому, который сделал из меня в течение двух месяцев офицера, умеющего работать с картой, овладевшего задачами роты, батальона и даже бригады. А этого не только командир танка, взвода, но и командир роты, не работавший в штабе, сделать не мог. Найдя танк, я подошел к экипажу. В это время механик-водитель Василий Семилетов копался в трансмиссионном отделении, остальные лежали рядом, и, как я заметил, все трое меня внимательно разглядывали. Все они были значительно старше меня, за исключением заряжающего Голубенко, который был членом моего первого экипажа и моим одногодком. Я понял сразу, что им не приглянулся. Ясно: или я сразу же стану командиром, или же не стану им в этом экипаже никогда, а это значит, что в первом настоящем бою экипаж вместе с танком может погибнуть, и скорее всего старики под всяким предлогом начнут симулировать и не участвовать в боях  Выручила меня самоуверенность, которая выработалась за время работы в штабе, и я строго спросил: «Что это за танк? Почему экипаж лежит?» Поднялся младший по возрасту сержант Голубенко и доложил: «Товарищ лейтенант! Экипаж танка завершил ремонт и ожидает нового командира». — «Вольно, товарищи! Прошу всех подойти ко мне». Команда медленно, но была выполнена. Подошли ко мне небритые, неряшливо одетые и с цигарками в руках. Приложив руку к пилотке, я представился и сказал, что о погибшем командире много слыхал хорошего, а вот экипаж что-то на него не похож. Потом, подойдя к лобовой части танка и остановившись справа в метре от него, я внезапно подал команду: «Становись!» Все встали, но цигарки не бросили. Дал команду: «Прекратить курение!» Бросили нехотя. Выйдя на середину из строя на один шаг от них, сказал, что мне неприятно идти в бой на таком неряшливом, грязном танке и с чужим экипажем. «Вижу, что и я вас не удовлетворил, но раз Родине надо, я буду ее защищать так, как меня учили, и так, как я могу». Смотрю, ухмылка у стариков сошла с лиц. Спрашиваю: «Машина исправна?» — «Да, — ответил механик-водитель, — вот только электромотор поворота башни не работает и нет в запасе ведомых траков: все три — рабочие». — «Будем воевать на этом. По машинам!» Команду выполнили более или менее. Поднявшись в танк, сказал, что едем в роту Аветисяна. Вынув карту и ориентируясь по ней, я повел танк в деревню Валки. По дороге, на окраине Новых Петривцев, попали под огонь артиллерии. Пришлось спрятать танк за каменную стену полуразвалившегося от бомбежки здания и дожидаться темноты. Когда танк был поставлен как следует и заглушён мотор, я объяснил экипажу, куда нам следует прибыть и цель моего маневра. Заряжающий Голубенко высказал: «Да ты здорово ориентируешься по карте, лейтенант!» — «Да и в тактике, видимо, разбираешься не хуже», — сказал радист Вознюк. Молчал только водитель Семилетов. Но я понял, что холодный прием уже позади, в меня поверили. Как только начало темнеть, мы двинулись и вскоре сопровождаемые артиллерийским и минометным огнем противника прибыли в роту. Практически в течение всей ночи мы, попарно сменяя друг друга, двумя лопатами рыли окоп, выбросив до 30 кубических метров грунта, и, поставив туда танк, тщательно замаскировали его. Наша подготовка к штурму Киева, в котором должна была принять участие наша бригада, началась с вызова всех командиров танков, взводов и рот 2 ноября 1943 года в землянку командира батальона. Было достаточно темно, моросил мелкий дождь. Нас было тринадцать солдат и три командира самоходных орудий. Начальник политотдела бригады подполковник Молоканов очень коротко поставил задачу командиру батальона. Из его слов я понял, что начало штурма — завтра в 8 часов. В эту ночь, за исключением дежурных наблюдателей, все крепко спали. В 6 часов 30 минут 3 ноября нас пригласили позавтракать. Получив завтрак, мы решили его съесть не в блиндаже, а на свежем воздухе. Здесь же, перед боем, метрах в двадцати пяти — тридцати и расположилась, испуская дым и пар, наша батальонная кухня. Как только мы расселись, противник открыл артиллерийский огонь. Я успел только крикнуть: «Ложись». Один из снарядов упал сзади нас, метрах в семи — десяти, но своими осколками никого не задел. Другой ударился метрах в десяти от нас и, не разорвавшись, кувыркаясь, смел на своем пути зазевавшегося солдата, оторвал колесо кухни, опрокинув ее навзничь вместе с поваром, раздававшим пищу, отвалил угол дома и успокоился в садах на противоположной стороне улицы. Выпустив еще два-три снаряда, противник успокоился. Нам было уже не до завтрака. Собрав свои небольшие пожитки, мы перебрались в танк в ожидании штурма. Нервы на пределе. Вскоре начался огневой налет, и я подал команду: «Заводи!», а увидев в воздухе три зеленых ракеты: «Вперед!» Впереди сплошной дым и вспышки от снарядов, изредка видны взрывы недолетов. Танк сильно дернулся — это мы прошли первую траншею. Постепенно успокаиваюсь. Неожиданно обнаружил справа и слева от танка бегущих, стреляющих на ходу пехотинцев. Идущие справа и слева танки ведут огонь с ходу. Опускаюсь к прицелу, не вижу ничего, кроме наваленных деревьев. Даю команду заряжающему: «Осколочным заряжай!» — «Есть осколочным», — четко ответил Голубенко. Делаю первый выстрел по наваленным бревнам, решив, что это первая траншея противника. Наблюдаю за своим разрывом, успокаиваюсь совсем, почувствовал себя как на полигоне, когда стреляешь по мишеням. Стреляю из пушки по бегущим в форме мышиного цвета фигуркам. Увлекаюсь огнем по мечущимся фигурам и даю команду: «Увеличить скорость». А вот и лес. Семилетов резко замедлил ход. «Не останавливайся!» — «Куда ехать?» — «Вперед, вперед!» Старый двигатель танка хрипит, пока мы давим одно за другим несколько деревьев. Справа танк Ванюши Абашина, моего командира взвода, тоже ломает дерево, но двигается вперед. Выглянув из люка, увидел небольшую просеку, идущую в глубь леса. Направляю танк по ней. Впереди слева слышны выстрелы танковых пушек и ответный тявкающий звук противотанковых пушек фашистов. Справа слышу только шум танковых моторов, но самих танков не вижу. А мой танк идет по просеке вперед. Думаю: не зевай, брат, открываю попеременно вдоль просеки огонь из пушки и пулемета. В лесу становится светлее, и вдруг — поляна. Заметив мечущихся по поляне гитлеровцев, даю выстрел. И тут же вижу, из-за холмиков на другом конце поляны ведется сильный пулеметный и автоматный огонь. Мелькнула между холмиками группа людей, и вдруг — вспышка — противотанковая пушка. Дал длинную очередь из пулемета и крикнул заряжающему: «Осколочным!» А затем почувствовал удар, и танк, как будто бы наскочив на серьезную преграду, на мгновение остановился и снова пошел вперед, резко сдавая в левую сторону. Снова, как на полигоне, отыскал группу снующих около оружия людей и дал по ним выстрел. Услышал крик Феди Вознюка: «Орудие и прислуга — в щепки!» Механик кричит: «Командир, у нас перебита правая гусеница!» — «С радистом выйти через десантный люк и восстановить гусеницу! Я вас прикрою огнем». А уже вышли на поляну еще несколько танков, а затем и стрелки. На ремонт гусеницы рабочим траком (ибо ведомых у нас не было) у нас ушло около часа. Кроме того, при вращении танка на левой гусенице его засосало в болотистую почву, а левее впереди, метрах в десяти, оказалось минное поле, поставленное фашистами на большом сухом участке поляны. Поэтому самовытаскивание танка пришлось осуществлять назад. На это ушло еще около двух часов. Догнать свой батальон удалось только с наступлением темноты, когда немцам удалось остановить наши танки перед вторым оборонительным рубежом. В течение ночи с 3 на 4 ноября мы осуществили дозаправку машин горючим и боеприпасами и немного отдохнули. На рассвете 4 ноября командир батальона собрал командиров на рекогносцировку. Из тринадцати человек, начавших наступление сутки назад, в строю осталось девять. По-прежнему с нами были три самоходные установки. Мы вышли к окопам стрелков, и Чумаченко показал: «Вот видите, впереди нас в трехстах метрах устроены сплошные лесные завалы из бревен?» — «Да, видим». — «Вот за этими завалами сидит противник и не дает подняться нашим стрелкам. Сейчас же выдвигайтесь на эту поляну, развернитесь в линию и атакуйте противника». Почему немцы не стреляли и не убили нас, стоявших в рост перед их обороной? Не знаю… Танки вышли на опушку, развернулись и пошли в атаку. Нам удалось разбросать бревна завалов и, преследуя их по просекам и лесной чащобе, еще засветло выйти на опушку леса к совхозу «Виноградарь». Здесь нас встретили контратакой до батальона немецких танков, в том числе «Тигры». Пришлось отступить в лес и организовать оборону. Немцы, подойдя к лесу, выдвинули вперед три средних танка, а главные силы построились в две колонны и двинулись в глубь леса. Уже темнело, но тут они решили ввязаться в так нелюбимый ими ночной бой. Мне было приказано своим танком перекрыть центральную просеку. Справа и чуть сзади меня должен был прикрывать танк Ванюши Абашина, слева меня прикрывала самоходная установка ИСУ-152. Разведка противника, пропущенная нами, углублялась в лес. Подходили главные силы. По шуму моторов было ясно: впереди шел тяжелый танк «Тигр». Приказываю механику-водителю Семилетову: «Вася, на малых оборотах чуть дай вперед, а то мне мешает впереди стоящее дерево бить по противнику в лоб». За двое суток боя мы сдружились, и экипаж понимал меня с полуслова. Улучшив позицию, я увидел противника. Не дожидаясь, когда механик-водитель окончательно установит танк, я дал первый выстрел подкалиберным по головному танку, который находился уже в пятидесяти метрах от меня. Мгновенная вспышка в лобовой части фашистского танка, и вдруг он загорелся, освещая всю колонну. Механик-водитель Семилетов кричит: «Командир, твою мать! Зачем выстрелил? Я еще люк не закрыл! Теперь от газов ничего не вижу». Но в этот период я обо всем забыл, кроме танков противника. Голубенко без моей команды уже докладывает: «Подкалиберным готово!» Вторым выстрелом я убил выходящий из-за первого горящего танка второй танк противника. Он также вспыхнул. В лесу стало светло, как днем. Слышу выстрелы танка Ванюши Абашина, глухой и долгий выстрел слева 152-мм самоходки. В прицел вижу уже несколько горящих танков. Кричу механику: «Вася, подойди ближе к горящим танкам, а то фрицы удерут». Подойдя почти вплотную к первому горящему танку из-за его правого борта, нахожу следующую живую цель «Артштурм». Выстрел — готова. Мы преследуем противника до совхоза «Виноградарь», где остановились привести себя в порядок. Как могли, подзаправились, готовясь к решающему штурму города. Утром 5 ноября в наше расположение приехали командир бригады гвардии полковник Кошелев и начальник политотдела подполковник Молоканов. Оставшиеся экипажи семи танков и трех самоходок выстроились перед машинами. Обратившись к нам, командиры поставили задачу овладеть городом, добавив, что первым экипажам, ворвавшимся в город, будет присвоено звание Героев Советского Союза. Минут через тридцать, построившись в боевую линию, мы пошли в атаку и быстро овладели южной окраиной Пуща-Водица, с ходу пересекли Святошино, а затем и шоссе Киев — Житомир. Дорогу преграждал противотанковый ров, вырытый еще в 1941 году, который необходимо было преодолеть, чтобы попасть в город. Спустившись в ров, танк застрял — мотор ревел на максимальных оборотах, из выхлопных труб вырывались полуметровые пучки огня, говорившие о его чрезвычайной изношенности, но выбраться не получалось. Чтобы увеличить тяговое усилие, кричу механику: «Преодолевай задним ходом!» И вот первая улица. И снова незадача! Рабочий трак, который мы поставили в лесу взамен разбитого ведомого, сейчас при выходе на мощеные улицы своим десятисантиметровым зубом поднимал корпус танка с правой стороны, исключая ведение огня. Остановились и, позаимствовав ведомый трак, приступили к ремонту. Батальон получил задачу двигаться к центру города. Головной танк достиг Т-образного перекрестка и вдруг, объятый пламенем, свернул вправо, врезавшись в один из угловых домов. Разведчики, находящиеся на нем, были сброшены. Лейтенант Абашин и я открыли огонь по удиравшей самоходной установке врага. Вторым снарядом я попал ей в кормовую часть, остановив ее движение. Небольшая заминка, подошедший быстрым шагом командир батальона назначает головным танк лейтенанта Абашина. По сигналу «Вперед!» мы двинулись дальше и вскоре вышли на Крещатик. Город взят. Вечером мы получили задачу выйти из города в направлении города Васильков. Однако, преодолевая небольшую речку, наш танк увяз и в силу изношенности двигателя уже не мог выбраться. Пришлось его вытаскивать тягачом и везти в ремонт. Ремонтные бригады, пытавшиеся восстановить мой танк, после безуспешных семидневных трудов объявили мне, что мой танк не подлежит ремонту в полевых условиях, добавив, что воевать на нем я смогу лишь в 1944 году. Вот так закончились для меня бои за Киев. За эти бои командование батальона представило меня и еще шестерых командиров к званию Героя Советского Союза. В период подготовки к дальнейшим боям мне разрешали самостоятельно формировать свой экипаж, поскольку со старым экипажем пришлось расстаться. Без ложной скромности скажу, что люди просились ко мне. Правда, из назначенного мне экипажа я никого, кроме механика-водителя, менять не стал. Радистом был молодой паренек Клещевой (имени его не помню), а башнером старшина эвенк, имя и фамилия которого также стерлись из памяти. Несколько опытных механиков батальона уговорили меня взять механиком-водителем Петра Тюрина. 27 декабря 1943 года бригада получила приказ наступать в направлении Чековичи — Гута-Добрынская — Каменный Брод — Андреев. Впервые мне было доверено идти в головном дозоре. Двигались к линии фронта ночью. Погода была морозная, грунт был твердым. Выпавший с утра снег несколько смягчал стук танковых гусениц. Двигатель нового танка тянул очень хорошо, мы двигались с высокой скоростью. Я нервничал, поскольку непонятно, где и как тебя встретит противник. Успокаивало то, что мы двигались полями, обходя населенные пункты, сокращая маршрут. Пройдя километров двадцать, мы вошли в какую-то деревушку. Остановились. Вскоре нас догнала колонна бригады. Отдых был очень короткий, после чего мы получили задачу двигаться вперед, но у меня — незадача. Мой механик-водитель Петр Тюрин заявил, что вести танк не может, поскольку не видит в темноте. Мы засуетились. Заменить его было некем. Экипаж был не взаимозаменяемым. Мог вести танк, кроме водителя, только я. Минут двадцать заставил нас Тюрин волноваться. Тут я почувствовал, что он лжет, если бы он на самом деле ослеп, он бы себя вел по-другому. Просто у парня сдали нервы — идти первым, не зная, что случится с тобой в следующую секунду, очень тяжело. Вскипев, я закричал на него: «Зачем же ты напросился в мой экипаж?» и добавил, обращаясь к замкомандира батальона Арсеньеву: «Товарищ гвардии старший лейтенант! На ближайшем привале замените мне Тюрина». И, повернувшись снова к механику-водителю, приказал в грубой форме: «А сейчас садись за рычаги и веди танк». Я дал команду «Вперед» и, напрягая зрение, стараясь в темноте через летящие снежинки разглядеть хоть что-нибудь, начал управлять им через ТПУ. Я часто отвлекался на ориентирование по карте, нагибаясь внутрь танка, который слабо, но освещался, и вскоре забыл про Петра, который вполне уверенно вел танк. С рассветом вдалеке показалось село Каменный Брод, а перед ним, метрах в пятистах от себя, я увидел темный предмет, который в предрассветных сумерках принял за танк. Дал по нему два раза бронебойными снарядом — вижу искры от попаданий и отлетающие в разные стороны черные куски. Понял, что перепутал, а подъехав, увидел большой валун. Вдруг из села на всех парах выскочили два немецких танка T-IV и удирают от нас вправо, в сторону города Черняхова. Я кричу: «Тюрин, догони, догони». А он струсил, остановился. До них уже полтора-два километра. Я выпустил пару снарядов — мимо. Черт с ними, надо брать село. Не доехав до крайних домов метров триста, встретил старичка, который показал мне проход в минном поле и сказал, что в селе немцев нет, но в соседнем стоит много немецких танков. Поблагодарив деда, вошел в село и двинулся по улице на его противоположную окраину. Дома стояли в одну линию вдоль дороги, а за ними, справа и слева, виднелись широкие поля. Меня догнали еще два наших танка, в том числе и танк командира взвода Ванюши Абашина. Выйдя на противоположную окраину, увидел в полутора километрах соседнее село, расположенное вдоль дороги. Не успел посмотреть на карту, чтобы определить его название, как вдруг заметил рядом с дальним селом, немного правее, курсирующие по полю немецкие средние танки T-IV, выкрашенные в белый цвет. Вслед за ними из-за домов начали выползать танки «Тигры» и «Пантеры», которые строились в боевую линию. Насчитал их семь штук. За ними также выстраивались во вторую линию танки T-IV, которых было около полутора десятков. Недолго думая, подал команду: «Бронебойным заряжай!» — «Бронебойным — готово». Стреляю по правофланговому «Тигру» — мимо! Что такое?! Смотрю в прицел — он у меня сбит на пять делений вправо. Вот почему от меня ушли те два танка при подходе к селу. Уточняю прицел, слышу, как по радио командиры нашей и второй роты развертывают танки в боевой порядок. Высунувшись из башни танка, увидел, как весь батальон развертывается в поле правее домов в боевой порядок, чтобы встретить в лоб танки противника. Это было безграмотное решение командира батальона, которое дорого нам стоило, но об этом я расскажу дальше.  Не знаю, что меня дернуло, но я решил атаковать немцев. Один против двадцати немецких танков! Совсем голову потерял! Даю команду механику: «Вперед! К тому селу!» Вслед за мной шел и второй танк нашего взвода, которым командовал Ванюша Абашин. Слева от дороги увидел скат к реке. Стало быть, можно свернуть с дороги и незаметно подойти к противнику. И только успел об этом подумать, как крайний «Тигр» с расстояния один километр дал по мне выстрел. Он бы меня убил, но болванка зацепилась за рукоять оставленной с осени и вмерзшей в землю сохи, изменила траекторию полета, пролетела в нескольких сантиметрах от башни моего танка. Повезло! Если бы они по мне все саданули, от меня бы мокрого места не осталось, но почему-то они не стреляли. Я крикнул Тюрину: «Сверни влево и иди по лощине вдоль речки, к крайнему дому села!» За мной этот маневр повторил и Ванюша Абашин. Подъехав к крайнему дому, думая, что он закрыл меня от развертывающихся немецких танков, решил посмотреть из-за угла этой хаты, что делают немцы, и доложить обстановку командиру роты по радио. Только я подбежал, крадучись, к углу дома и хотел было высунуться, как снаряд, выпущенный из танка, стоявшего за стогом сена в полутора километрах от деревни, по-видимому, в целях обеспечения развертывания главных сил и поддержки их атаки, отвалил угол этой хаты и отбросил меня к моему танку. Поднялся с трудом, ибо ноги отяжелели и не хотели подчиняться, иду к своему танку, руки трясутся. А тут метрах в трехстах-четырехстах перед нами выполз из окопа тяжелый танк T-VI — «Тигр» желтого цвета. Мы стоим на открытом месте. Почему он не стрелял?! Не знаю… Я еще в танк не заскочил, кричу Ванюше: «Стреляй, р… й, стреляй!!! Стреляй по нему, твою мать!» А он стоит, смотрит. Видать, обалдел. Честно говоря, я был выше его по уровню подготовки, особенно после службы офицером связи при штабе. С трудом влез в свой танк и навел пушку на этот выползающий «Тигр». Однако, видимо, вследствие шока и большого волнения никак не мог определить точно расстояние до него. Принял решение отступить. Даю команду Тюрину развернуться и вернуться в Каменный Брод тем же путем, что и пришли. А немецкие танки, завершив развертывание, пошли в атаку на батальон, стреляют, наши танки горят. Я параллельно им, правее метров двести, иду со скоростью 50 — 60 км/ч. Обогнал их, заехал за крайнюю хату, резко развернулся и встал между домом и сараем, около которого стоял стог сена: «Сейчас я вас в борт пощелкаю». А танки обошли деревню справа и движутся мимо меня. Смотрю в прицел, мешает куча навоза. Продвинулся вперед, развернул башню и вижу идущий ко мне правым бортом крайний правофланговый вражеский «Тигр», готовый к выстрелу по одному из наших танков, стоявшему на его пути. Своего попадания я не видел, но «Тигр» дернулся и встал, а из него повалил дым. Ко мне подъехал танк командира 2-го взвода Кости Гроздева, ему надо было за другую хату и бить, а он ко мне жмется. Видимо, танк, который издалека прикрывал развертывание и стрелял по мне, когда я был у соседнего дома, врезал ему. Башню сорвало, и она отлетела на крышу соседнего дома. Костя выскочил… вернее, выскочила верхняя часть туловища, а нижняя в танке осталась. Руками по земле скребет, глаза хлопают. Ты понимаешь?! Я кричу механику: «Назад!» Только развернулись — удар! И танк закрутился и закатился аж на другую сторону улицы. Болванка, попав в правую бортовую передачу, оторвала большой бронированный кусок, оголивший шестерни передачи, но танку практически ущерба не принесла. Немецкие танки повернули левее и стали быстро сворачиваться для выхода из боя. Сожгли мы у них четыре танка, из них один «Тигр», но и сами потеряли восемь машин. В лоб встретили! Надо было спрятаться за хаты, пропустить их и жечь в борта. Мы бы их все там пожгли! А так роту потеряли! В основном, конечно, молодежь — только пришедшую на пополнение, без опыта. Главное, они выскочили. Уже позднее выяснилось, что эта группировка с нашим выходом в Каменный Брод попадала в окружение, отчего и шла ва-банк, чтобы прорвать наш боевой порядок. Быстро перегруппировавшись, бригада начала преследование. Темнело. Настроение отвратительное — столько людей потеряли, но сейчас главное — не дать им закрепиться и перейти к обороне. Часам к девяти темнота и моросивший мелкий дождь со снегом совсем ослепили меня. Движение замедлилось. Меня догнали другие танки, развернувшись в боевую линию, идем, озираясь друг на друга. Ночная мгла, атака в никуда, противника не видно. Начали стрелять осколочно-фугасными снарядами по ходу движения. Вскоре прошли большое село. Незаметно наступил рассвет, показалась грунтовая дорога. Слышу по радио открытым текстом: «Фадину занять свое место». Ускоряю ход и выхожу вперед в готовности действовать в качестве боевого дозора. За мной выдвигаются еще два танка. С рассветом на душе стало веселее, однако ненадолго. Сквозь дымку, высунувшись по грудь из танка, увидел очертания большого населенного пункта. Мне показалось, что это город Черняхов. И только успел это подумать, как по нам ударила тяжелая вражеская артиллерия. Развертывание и атака с ходу начались стремительно. Слева, в двухстах метрах от меня, развернулась батарея новых самоходных установок СУ-85 и открыла огонь с места. Еще левее разворачивается истребительно-противотанковая батарея нашей бригады. Мы тремя танками атакуем, ведя огонь по крайним хатам. Смотрю в прицел и вижу выдвигающуюся перпендикулярно нам в двух километрах колонну танков, входящую в город с другой стороны. А тут еще артиллерия бьет по ним и по нам откуда-то справа. Мелькнула мысль, как хорошо налажено взаимодействие по захвату этого населенного пункта. И тут заметил, как от крайнего дома в белом полушубке бежит навстречу нам человек, подбегает к командиру противотанковой батареи и бьет его в лицо. Оказалось, что в город уже вошла 21-я гвардейская танковая бригада, а мы, выходит, ведем огонь по своим. Быстро ориентируемся и поворачиваем на центр города. Слышу по радио открытым текстом: «Фадину и Абашину выйти к железнодорожному вокзалу». Поворачиваю правее и вижу двухэтажное каменное здание вокзала. Поворачиваю башню для выстрела вдоль улицы, и вдруг танк содрогается от мощного взрыва крупнокалиберного осколочного снаряда, попавшего в правую часть кормы. Танк продолжает двигаться, медленно сворачивая в правую сторону. Механик-водитель кричит: «Командир, добили нашу бортовую передачу». — «Можешь двигаться?» — «С трудом». Подъехали к крайнему от вокзала дому. Я выскочил из танка, чтобы посмотреть повреждения. Оставшуюся часть броневого листа, прикрывавшую шестерни бортовой передачи, как ножом срезало. Разбиты две шестерни, а другие имеют трещины. Не пойму до сих пор, как мы еще продолжали двигаться. В этот момент подъехал на своем танке командир батальона Д. А. Чумаченко, приказавший занять оборону и ждать ремонтников. Поставив танк в гуще яблоневого сада, примыкавшего к дому, мы вскоре дождались присланную командиром батальона ремонтную летучку. Поговорив немного с ремонтниками, я распорядился, чтобы командир орудия и стрелок-радист находились в танке и вели наблюдение, а сам решил сходить к зданию вокзала и понаблюдать из него за городом. Вдруг услышал крики, автоматные очереди и выстрел из моего танка. Повернулся и со всех ног бросился назад. Оказалось, что оставшиеся в тылу немцы атаковали танк. Ремонтники и экипаж заняли оборону, а заряжающий выстрелил осколочным снарядом практически в упор по атакующей пехоте. В итоге немцы потеряли около десяти человек, а оставшиеся тринадцать сдались в плен. Восстановление танка заняло около суток, а потом пришлось догонять ведущую бои днем и ночью свою бригаду. Не могу вспомнить сейчас, когда же мы спали. Все это делалось какими-то урывками, от одного до двух часов в сутки. Усталость провоцировала появление безразличия, что вело к потерям. Уже ночью вошли в город Сквиру. Все измотались до того, что никто и не заметил прихода Нового, 1944 года. Отдохнуть удалось часа три-четыре. Проснулись от ударов по башне палкой — работники походной кухни звали на завтрак. Во время завтрака нас вызвали к командиру батальона. Около батальонной автомашины с будкой собралось одиннадцать человек, из которых трое — командиры самоходных установок. В батальоне осталось восемь танков — это еще неплохо, плюс два отделения от взвода бригадной разведки. Выйдя из будки, командир батальона сначала представил нам нового командира роты лейтенанта-техника Карабуту, а затем поставил задачу пройти маршем до города Тараща, овладеть им и удержать до подхода главных сил бригады. Выдвинулись засветло. Мне с пятью разведчиками опять пришлось двигаться в голове колонны на километр-полтора впереди. Вскоре над нами зависла «рама». Значит, жди гостей. И точно! Появляются восемнадцать Ю-87. Развернувшись в боевую линию, держа интервалы между машинами сто — сто пятьдесят метров, мы на большой скорости шли вперед. Бомбежка была интенсивной, но безрезультатной — ни одна машина не пострадала. Впереди показалось небольшое село, откуда донеслись выстрелы полевых пушек и автоматные очереди. Мы были очень злы и с ходу открыли огонь, заставив небольшой гарнизон спасаться бегством.  Мы продолжали двигаться в боевом порядке, как будто бы нам что-то подсказывало, что противник совсем недалеко и мы вот-вот его встретим. На смену отбомбившимся и ушедшим восемнадцати самолетам появились вдалеке еще две группы по восемнадцать самолетов, которые, сделав большой разворот, принялись нас бомбить. Это подтверждало мое предположение, что противник совсем близко. Вскоре перед нашим взором открылась большая деревня, через которую двигалась черная на фоне белого снега, сплошная, необозримой величины колонна противника. Голова этой колонны, в которой были автомашины, конные упряжки, уже вышла из села и стала наращивать скорость, чтобы уйти. Как выяснилось, это выдвигались тылы вновь подошедшей 88-й пехотной дивизии противника. Видя перед собой практически беззащитного противника, мы, стреляя с ходу, стали рассыпаться из боевого порядка по ширине колонны, чтобы не дать уйти и части из нее. Тут, на нашу беду, население деревни Березанка вышло из домов навстречу нам, молясь и призывая нас быстрее войти в деревню, мешая вести огонь по немцам. Пришлось вести огонь через их головы по убегающим в поле немцам, бросавшим снаряженные повозки и автомашины. Идя вдоль колонны, расстреливаю убегающих немцев из пулеметов. Вдруг увидел группу фрицев на окраине деревни, суетившихся возле каких-то повозок, распрягавших лошадей и отгонявших их в сторону. Даю выстрел осколочным в их гущу и вижу: снаряд раскидал их в сторону, и только тут заметил орудие, которое они пытались развернуть прямо на дороге. Высунувшись из башни, увидел еще три такие же группы, пытающиеся освободиться от лошадей, которые везли орудия. Мне удалось сделать три или четыре выстрела, и все снаряды легли в расположение этой артиллерийской батареи. Подскочив к первому орудию, я приказал Тюрину объехать его, сам же расстреливал из пулемета ее расчеты. Придя немного в себя от скоротечного боя, я высунулся из башни, осматривая поле боя. Оно было ужасно. Вдоль дороги стояли брошенные немецкие повозки и автомашины, разбитые и целые, груженные продовольствием и боеприпасами, лежали трупы убитых немцев и лошадей… Такое же количество лежащих на снегу трупов мне пришлось увидеть примерно через неделю в районе прорыва немецкой обороны у города Виноград, но это были уже наши пехотинцы… Пленных было порядка двухсот человек, и мы не знали, что с ними делать, так как на танках десантом шел только взвод разведки. Пришлось из них выделить для охраны и конвоирования несколько человек. Мы сосредоточились в деревне, поживившись трофеями. Тюрин и Клещевой принесли по большой свиной туше, положив их на трансмиссию: «Отдадим хозяевам домов, где будем останавливаться». А затем Тюрин подал мне новые кожаные офицерские сапоги, говоря, что в валенках все время нельзя ходить, а таких сапог, дескать, лейтенанту все равно не выдадут. Да, сапоги оказались мне по размеру, и я до сих пор помню их прочность, непромокаемость. Вскоре ко мне подошел командир роты старший лейтенант Володя Карабута, поставил задачу двигаться вперед к городу Тараща, который был где-то в десяти километрах западнее деревни Березанка. Подмороженная грунтовая дорога позволяла идти на высокой скорости. Пройдя несколько километров, мы подошли к селу Лесовичи. Немцев там не оказалось. До города оставалось всего около трех километров, которые мы легко преодолели. В сумерках на большой скорости, наблюдая в прицел пушки, врываюсь на улицу. Жителей никого не видно. Это плохой признак — значит, где-то засада. Впереди вижу перекресток, но в этот момент из одного дома выбегает женщина и машет рукой. Останавливаю танк, высовываюсь из люка и кричу ей, но за ревом двигателя ее ответа не слышу. Вылезаю из танка и спрашиваю: «В чем дело?» Она кричит, что впереди, метрах в трехстах, на перекрестке, стоят немецкие танки. Благодарю ее и направляюсь к своему танку. В этот момент выскочивший из следующего за мной танка командир роты Владимир Карабута, узнав от меня о противнике, сказал: «Фадин, ты уже Герой Советского Союза, поэтому первым пойду я» — и начал объезжать мой танк. Вскочив в танк, кричу Петру Тюрину: «Иди за ним, как только его подобьют, сразу из-за него выскакивай и — вперед!» Тюрин за ним. Так оно и случилось. Пройдя метров сто, танк Карабуты получает снаряд в лоб и загорается. Я обхожу его и, стреляя в никуда, вырываюсь вперед. Только тут увидел впереди, метрах в ста, тяжелую самоходную установку «Фердинанд», которая, упираясь кормой в небольшое каменное строение, контролировала перекресток. Увидев «Фердинанда» и ударив ему в лоб бронебойным снарядом, даю команду Тюрину таранить его. Тюрин приблизился, ударил «Фердинанда» и начал его давить. Экипаж попытался выскочить, но попал под автоматный огонь заряжающего. Четверо остались лежать убитыми на крыше корпуса, однако одному немцу удалось убежать. Успокаиваю Тюрина и даю команду сдать назад. Вижу, остальные танки и САУ движутся по улице, ведя огонь. Успокаиваюсь, сажаю разведчиков на танк и выдвигаюсь на улицу, ведущую к центру города. Стрельба прекратилась, и наступила какая-то зловещая тишина. Командир роты со своим экипажем погиб (как потом выяснилось, он остался жив), и ждать команды «вперед» не от кого, кто-то должен показать пример. А коль я шел первым и так легко расправился с «Фердинандом», то мне и сам бог велел идти дальше. Разворачиваюсь на перекрестке налево и двигаюсь по улице, которая спускается к реке. Подошел к мосту. Только подумал: «Не обвалился бы», — как с другой стороны реки из-за поворота улицы показалась большегрузная автомашина с большим кузовом. В темноте немцы не заметили остановившийся на противоположном берегу у основания моста наш танк и, выехав на мост с ходу, уперлись бампером в лоб танка. Шофер быстро сообразил и выпрыгнул из кабины прямо под мост. Мне оставалось только нажать на спуск пушки, и осколочно-фугасный снаряд, пробив кабину, взорвался внутри кузова, набитого немцами. Фейерверк! Останки людей падают на лед, на мост. Я говорю: «Петя, вперед». Передок и мотор сбросили с моста и, по трупам проехав через мост, поднялись по улице. Разведчики соскочили с танка у моста, видимо, отправившись мародерничать — собирать часы, пистолеты. Тогда часов-то не было. Только у командира танка были танковые часы с большим циферблатом. Медленно двигаемся вперед, повернули и, дав выстрел вдоль улицы, устремились на полном ходу к центру города. Подошли к Т-образному перекрестку. Перекладину этой «Т» образовывал дом, к стене которого, в тень, я прижал танк. Немцев не видно. Своих танков тоже. Заглушили мотор, притаились, наблюдаем. Идти вперед ночью по хорошо освещенным луной улицам без разведки и десанта на танке страшновато, но и стоять без дела тоже неудобно. Кругом зловещая тишина. И вдруг слышу: заработали двигатели нескольких танков, и мгновенно мимо меня по улице на большой скорости прошли три наших танка. Тут же в той стороне, куда они прошли, послышались взрывы и орудийные выстрелы. Вспыхнул бой и на восточной окраине города, где оставались основные силы бригады. Я жду. В той стороне, куда проскочили три наших танка, бой постепенно замирает — видимо, их сожгли. Минут через пятнадцать-двадцать я услышал, как оттуда идет немецкий танк. Решил подпустить его вплотную и уничтожить метров со ста. И тут меня осенила дикая мысль. Надо его уничтожить так, чтобы было красиво, чтобы потом мелом на нем написать: «Подбил лейтенант Фадин». Во дурь какая! Для этого его надо впустить на перекресток, т. е. на пятнадцать-двадцать метров от себя, и врезать ему бронебойный снаряд в борт, когда он будет поворачивать налево (я почему-то был убежден, что он повернет на левую улицу). И вот держу вражеский танк на прицеле. Танк-то небольшой: T-III или T-IV. Он вышел на перекресток, развернулся налево, я доворачиваю башню направо… а она не поворачивается. Вражеский танк рванул вдоль улицы. Кричу Тюрину: «Заводи и выходи на эту улицу, расстреляем его вдогонку!» Но танк сразу не завелся. Упустили! Я выскочил из башни на корму. К задней части башни танка был приторочен брезент. Разведчики, сидевшие на корме, вытянули его края, чтобы подстелить на холодную броню. Выпущенный край брезента попал под зубцы поворотного механизма башни, заклинив ее. Он не мог туда попасть, просто не мог!!! Я до сих пор не могу пережить, что упустил этот танк! Я после войны рассказывал этот эпизод матери. Говорю: «Не мог брезент под башню попасть». На что она ответила: «Бог тебя сколько раз спасал? — 4 раза. Бог ведь один. Видимо, там честные люди сидели. Вот он тебе и подсунул брезент под башню». Вытащив брезент и запрыгнув в танк, приказываю Тюрину выйти на улицу, по которой ушел танк, в надежде догнать его снарядом. В это время слышу по радио: «Фадину, Фадину, срочно вернуться назад». Разворачиваю свой танк в обратную сторону и двигаюсь к мосту. Бой явно затихал. Немцы, понеся потери, начали вывод своих подразделений. Вот так в ночь с 4 на 5 января мы освободили город Тараща. В течение первой половины дня 5 января мы приводили себя в порядок, немного поспали. А в 14 часов 5 января 1944 года начали выдвижение через весь город на запад, в направлении города Лысая Гора. Как и прежде, мне посадили четырех разведчиков — и вперед, в голове колонны. Входим в пригород Лысой Горы. Справа вижу в темноте украинские белые хаты, а впереди темнеет лесок. Командую Тюрину увеличить скорость. Проскакивая по улицам Лысой Горы, получаю три или четыре снаряда из полуавтоматической пушки себе в левый борт. Танк сполз вправо в какую-то яму, так что стрелять из него можно только в воздух. Останавливаемся. Открываю люк, вылезаю из танка и вижу, что моя левая бортовая передача разбита и танк не только двигаться, но и повернуться, чтобы удобнее было стрелять, не может. Подъехавший командир батальона приказал ждать ремонтников, оставив для охраны стрелковое отделение во главе с командиром взвода. Выставив охранение, мы взяли свиную тушу, которую захватили в разгромленном обозе, и с тех пор возили на танке, подняли хозяина дома деда Ивана с хозяйкой и попросили пожарить нам свинины. Хорошо поужинали. Но нам было не до сна. Стали готовиться к защите подбитого танка. Для этого сняли спаренный с пушкой пулемет и пулемет радиста, приготовили гранаты, автомат. К нам присоединились семь стрелков с их командиром. Так что сил для отражения наступления пехоты противника было достаточно. С рассветом, заняв круговую оборону, я ждал попытки фашистов захватить наш танк. Где-то часов в девять утра прибежали четверо местных и сообщили, что к нам идут немцы группой человек до двадцати, а может, и больше. Отправив местных, чтобы не нести лишних потерь, мы залегли и приготовились к бою. Буквально через три-четыре минуты немцы в белых халатах с автоматами неорганизованной группой, чуть ли не толпой, показались из-за домов, направляясь в нашу сторону. По моей команде мы открыли шквальный огонь по ним и убили, по-видимому, человек десять. Они залегли, а затем уволокли своих убитых и больше нас не беспокоили. Часам к 14 подошли главные силы бригады, которые разгромили противостоящих нам немцев, оставили ремонтную летучку и, забрав мою пехоту, двинулись в сторону города Медвин за нашим батальоном. С 6 по 9 января 1944 года ремонтные бригады восстанавливали мой танк, приводя его в боевое состояние. Мы же коротали свободное время в разговорах с местными красавицами, жившими по соседству. Вечерами собирались вместе, рассказывали о своем детстве или же играли в карты. Утром 9 января к нам приехал командир батальона Дмитрий Чумаченко, который, похвалив меня за мои действия в городе Тараща, приказал по завершении работы принять командование полуротой танков, прибывших, как и мой, из ремонта, и повести их освобождать деревушку в нескольких километрах от города Виноград, что мы и сделали. Где-то 17 января нам было приказано передать несколько сохранившихся танков в 20-ю гвардейскую танковую бригаду нашего корпуса и выйти в резерв корпуса для пополнения ее прибывающими экипажами танков из глубины тыла. Доукомплектовывались вблизи города Медвин всего несколько дней. Впервые офицеры бригады собрались вместе после доукомплектования, которое было в ноябре. Многих ребят я недосчитался. В первую очередь, конечно, погибали экипажи, прибывающие в составе маршевых рот, получившие слабую подготовку при сколачивании в глубоком тылу. Наибольшие потери бригада несла в первых боях. Выдержавшие первые бои быстро осваивались и затем составляли костяк подразделений. В период доукомплектования я был назначен командиром танка командира батальона. В экипаже были очень опытные танкисты, провоевавшие не менее года, а то и более: механик-водитель гвардии старшина Петр Дорошенко, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени и орденом Красной Звезды, командир орудия гвардии сержант Фетисов, награжденный двумя медалями «За отвагу», и радист-пулеметчик гвардии сержант Елсуков, награжденный орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. Кроме того, все они были награждены медалью «За оборону Сталинграда». Даже к 1944 году, когда награждать стали чаще, это были очень высокие награды, и такого экипажа в бригаде больше не было. Экипаж жил отдельно и не якшался с другими тридцатью экипажами, и когда после объявления приказа я прибыл к ним в дом, где они поселились, то прием был настороженным. Понятно, что принять верховенство над собой самого молодого лейтенанта бригады, выросшего буквально за три-четыре месяца боев, им было трудно, тем более что Петр Дорошенко и Елсуков были значительно старше меня. Я тоже понимал, что мне еще надо доказать свое право командовать этими людьми. Уже 24 января бригада была введена в прорыв, проделанный 5-м механизированным корпусом в направлении городка Виноград. Ввод в бой осуществлялся на рассвете практически перекатом через только что атаковавших противника стрелков 5-го механизированного корпуса. Все поле перед немецкой обороной было усеяно трупами наших солдат. Как же так?! Это же не сорок первый — сорок второй годы, когда не хватало снарядов и артиллерии, чтобы подавить огневые точки противника! Вместо стремительной атаки мы ползли по пашне, объезжая или оставляя трупы наших солдат между правой и левой гусеничными лентами, чтобы их не задавить. Пройдя первую линию стрелковых цепей, резко, без команды увеличили скорость атаки и быстро овладели городком Виноград. Где-то утром 26 января командир батальона получил приказ направить свой танк вместе с экипажем в распоряжение командира бригады гвардии полковника Жилина Федора Андреевича, потерявшего танк в январских боях. Так в последних числах января 1944 года я стал командиром танка командира 22-й танковой бригады. Воевать весной сорок четвертого на Украине было сплошное мучение. Ранняя оттепель, моросящий сырой снег превратили дороги в болота. Подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия осуществлялся на лошадях, поскольку машины все застряли. Танки еще как-то двигались, а мотострелковый батальон отставал. Пришлось просить население — женщин и подростков, которые от села к селу несли на своих плечах по одному снаряду или вдвоем тащили ящик с патронами, увязая чуть ли не по колено в грязи. В конце января мы, окружая Корсунь-Шевченковскую группировку, сами попали в окружение, из которого едва вырвались, утопив восемь танков в реке Горный Тикич. Потом отражали атаки пытавшихся вырваться фашистов. Короче, к 18 февраля, когда нам приказали сосредоточиться в районе деревни Дашуковка, в бригаде остался один танк командира бригады — мой танк — и мотострелковый батальон автоматчиков. Правда, от батальона осталось шестьдесят-восемьдесят человек и два орудия 76-мм пушек, да и он отстал, увязнув по дороге в грязи. Управление бригады сосредоточилось в деревушке недалеко от Дашуковки, мотострелки должны были подойти примерно через пять-шесть часов. Противник только что выбил наши части из Дашуковки, таким образом практически прорвав кольцо окружения. Мы с комбригом и начальником политотдела подъехали к глубокому оврагу, который нас отделял от Дашуковки и до которой оставалось примерно километр. Деревня стояла на пригорке, вытянувшись с севера на юг, образуя улицу длиною примерно полтора-два километра. С трех сторон она была окружена оврагами, и только северная, дальняя от нас окраина имела пологий спуск к грунтовой дороге, шедшей из Лысянки. В районе деревни шел вялый бой. Видно, обе стороны выдохлись, резервов нет. Изредка шестиствольный миномет противника где-то с северной окраины Дашуковки разбрасывал мины по нашей пехоте. Мы вернулись в деревню, расположившуюся перед оврагом. Поставив танк у выбранной комбригом хаты, я вошел в нее, чтобы согреться и посушить промокшие сапоги. Войдя в хату, я услышал разговор по радио между командиром бригады и командиром корпуса, Героем Советского Союза генералом Алексеевым: «Жилин, закрыть брешь». — «Да у меня один танк». — «Вот этим танком и закрой». После разговора он повернулся ко мне: «Ты слыхал, сынок?» Задача была ясна. Поддержать пехоту 242-го стрелкового полка, оставившую Дашуковку тридцать минут назад и тем самым открывшую трехкилометровую брешь. Овладеть Дашуковкой, выйти на ее северную окраину и до подхода резервов корпуса исключить подход и прорыв противника к окруженным по единственной грунтовой дороге, проходящей в 500 — 600 метрах севернее Дашуковки. Я быстро выскочил из хаты. Мой экипаж спокойно жевал хлеб с тушенкой. Хозяйка хаты вынесла вслед за мной кринку молока и предложила выпить. А мне белый свет был не мил. Я ведь не знаю, что там, в Дашуковке, какой противник и как его выбивать. Крикнул экипажу: «К бою!» Экипаж вначале ошалело взглянул на меня в недоумении, отпустив пару шуток по поводу моей прыти, но, видя, что я не шучу, бросил еду, и все метнулись к танку. Я приказал сбросить брезент, чтобы не случилось казуса, как это было в Тараще, выбросить все изнутри танка, что не нужно было для боя, и догрузить боеприпасов. Таким образом, я шел в бой с двумя боекомплектами снарядов, сто пятьдесят штук вместо штатных семидесяти семи.  Минут за тридцать танк подготовили к бою. Провожать нас вышло все начальство. Помахал всем рукой и, встав на сиденье, взявшись руками за командирский люк, я дал команду: «Вперед!» Впервые, как себя помню, не было тяжело на душе, как это всегда бывало перед атакой, до первого выстрела. Слова начальника политотдела Молоканова Николая Васильевича, сказанные на прощание: «Надо, Саша!» — подействовали ободряюще. Подъехав к изгибу оврага, откуда было ближе всего к деревне Дашуковка, мы стали медленно спускаться по его склону. Выход был только один — преодолеть овраг и начать атаку на южную окраину Дашуковки. Легко скатились вниз, однако подняться на противоположную сторону нам не удалось. Добравшись с ходу до половины противоположного ската, танк на большой скорости скатился обратно вниз. Мы сделали несколько попыток подняться, и всякий раз танк срывался вниз. Начинавшаяся с наступлением темноты гололедица все больше затрудняла наш подъем. Выбившись из сил, я вспомнил, как преодолел ров под Киевом на задней передаче. Нашлись и двенадцать шипов на гусеницы «зипе», которые мы закрепили по шесть на каждую гусеничную ленту. Управившись за полчаса, мы развернули танк задом и все трое — я, заряжающий и радист-пулеметчик, — уцепившись за выступ лобового листа брони, начали толкать танк вверх. Мы уже настолько вымотались, что не отдавали отчета, что наше усилие для двадцативосьмитонной машины — тьфу! А если бы танк, как и раньше покатился вниз, то от нас бы мало что осталось. Однако наша злость, воля, умение механика-водителя и прикрепленные шипы сделали свое дело. Танк, натуженно ревя, медленно, но полз вверх. Казалось, что вот-вот он встанет, мы же изо всех сил толкали его, старались помочь двигателю. Поднявшись кормой над краем оврага, танк на какое-то мгновение застыл, но, зацепившись за грунт, перевалился на ту сторону. Выбравшись наверх, механик начал разворачиваться, а у меня потемнело в глазах. Услышав громкую работу двигателя, немцы начали пускать осветительные ракеты, усилился ружейно-пулеметный огонь. Оглянувшись по сторонам, дал команду экипажу: «В танк!» и распорядился дать танку отдохнуть полчаса. Закрыв за собой люк, я сразу впал в забытье. Видимо, то же самое произошло и с экипажем. Из забытья меня вывел громкий стук по башне. Спрашиваю, кто. Мне ответил командир 242-го стрелкового полка. Открыл люк, представился. Он сказал, что я молодец, что преодолел такой глубокий овраг: «Смотри, вон двигающиеся огоньки. Это идут немецкие автомашины. Думаю, что несколько подразделений противника уже прошли по дороге. На этом участке собраны остатки моего полка — примерно рота. Вам необходимо, используя ночь, поддержать атаку моей пехоты, выйти на северную окраину и своим огнем закрыть дорогу. МСБ вашей бригады уже на подходе, так что помощь близка». Впереди, метрах в двухстах, виднелись мигающие папиросные огоньки — пехота лежала на мокром снегу. Приказываю механику подойти к пехоте и даю команду: «К бою!» Заряжающему показал растопыренную ладонь — «Осколочным!» Остановив танк в десяти метрах от стрелков, осмотрел лежащих на снегу бойцов, вооруженных винтовками. Только некоторые были вооружены автоматами. Видать, собрали их из всех подразделений полка. Беглым взглядом оценив их состав, в цепи, растянутой метров на триста-четыреста, я увидел около пятидесяти человек. Высунувшись из командирского люка, обратился к ним: «Мужики, мы сейчас выбьем противника из деревни и выйдем на ее противоположную окраину, где и займем оборону. Поэтому лопатки в период боя не теряйте. А сейчас вы короткими перебежками выдвигайтесь впереди танка метров на двадцать — двадцать пять и с ходу ведите огонь по противнику. Не бойтесь моих выстрелов, ибо я стреляю выше ваших голов». Один из них крикнул мне: «Когда это танки шли сзади пехоты?» Я ответил, что вопрос поставлен правильно, но сегодня надо действовать так. «Я буду уничтожать огневые точки противника, а как подойдем метров на двести к деревне, я выйду вперед, а вы броском за мной. Сейчас посмотрите и по моей команде — вперед!» Взревел мотор — немцы выпустили несколько ракет, и сразу же заработали семь пулеметных точек. Поставив прицел на ночную стрельбу, я начал их расстреливать справа налево. Мои снаряды в течение полутора-двух минут подавили сразу три или четыре точки. Высунувшись из танка, даю команду: «Вперед!» Увидев мою отличную стрельбу, пехота поднялась вначале неуверенно, но в атаку пошла. Противник снова открыл огонь из четырех или пяти точек. Я же расстрелял еще три из них, а потом дал команду механику продвинуться вперед еще на двадцать пять — тридцать метров, выстрелив при этом по окраине деревни двумя снарядами, затем, медленно двигаясь, уничтожил еще одну огневую точку. Из танка вижу, как моя пехота короткими перебежками продвигается вперед. Противник ведет только ружейный огонь. Видимо, немцы, овладев деревней, оставили в ней небольшой заслон силой до одного взвода, не имея даже ни одного противотанкового орудия, бросив основные силы на прорыв к окруженцам. Настала решающая минута — пехота поверила в меня, видя, как я расправился с пулеметными точками противника, и продолжала делать перебежки, ведя огонь с ходу и лежа. Но нельзя терять этот благоприятный момент. Поэтому высовываюсь из танка и кричу: «Молодцы, ребята, а теперь в атаку!» Обогнав цепь и ведя огонь с ходу, врываюсь в деревню. Остановился на миг, дал два выстрела из пушки вдоль улицы по убегающим немцам и длинную пулеметную очередь. Заметил, как какое-то сооружение пытается вывернуться из-за дома на улицу. Не размышляя, крикнул Петру: «Дави!» Механик рванул танк вперед, ударив правым бортом это большое чудовище, которое впоследствии оказалось шестиствольным минометом. Продолжаем движение, расстреливая выбегающих из домов, мечущихся у автомашин немцев. Многим из них удалось спуститься в овраг и убежать, а те, кто бежал вдоль улицы, боясь темени и неизвестности оврагов, получали свою пулю. Вскоре, выйдя на северную окраину, стал выбирать удобную позицию для обороны. Метрах в двухстах от основного массива домов стояла отдельная хата. К ней я и подвел свой танк, поставив его левым бортом к стене дома. Впереди, метрах в восьмистах, по дороге идут одинокие автомашины. Задача выполнена — дорога под прицелом. К этому времени ко мне стали подходить и мои пехотинцы. Их осталось около двух десятков. Отдаю команду занять круговую оборону, потому что противник мог обойти нас по оврагам и окопаться. Но, как и ожидал, у пехотинцев нет лопаток, и они толкутся возле моего танка, ища в нем защиту. Видя это, рекомендую всем рассредоточиться, выбрать каждому удобную позицию и быть готовыми к отражению контратаки противника с наступлением рассвета. Через несколько минут из-за рощи, что росла левее через дорогу, выдвинулся целый город света — колонна автомашин с пехотой, идущая с зажженными фарами (немцы в течение всей войны ночью совершали передвижение только с включенными фарами). Определяю по прицелу скорость движения — около 40 км/ч — и жду, когда они выйдут перед фронтом нашей обороны. Не ожидал я такого подарка от фашистов и, определив дальность, взял поправку на первую автомашину. В одно мгновение мой снаряд превращает ее кузов в огненный шар. Перевожу прицел на последнюю автомашину (она оказалась одиннадцатой), которая после моего выстрела подпрыгнула и, вспыхнув, развалилась на части. И тут на дороге начался кошмар. Идущий в колонне вторым бронетранспортер рванул в обход первой горевшей автомашины и сразу же сел днищем в грязь. Остальные автомашины пытались съехать с дороги направо и налево и тут же зарывались в грязи. От моего третьего выстрела, а он последовал не более чем через шесть-восемь секунд, вспыхнул бронетранспортер. Мне механик говорит: «Лейтенант, не расстреливай все машины, трофеев надо набрать». — «Ладно». Местность осветилась, как днем. Были видны в отблесках пламени бегающие фигуры фашистов, по которым я выпустил еще несколько осколочных снарядов и короткими очередями полностью разрядил диск из спаренного с пушкой танкового дегтярев-ского пулемета. Постепенно ночь стала уступать рассвету. Стоял туман, да еще сыпал хотя и редкий, но сырой снег. Враг не контратаковал, а занимался вытаскиванием раненых с поля боя. Пехотинцы мои иззябли и грелись, как могли. Часть из них ушла погреться в крайние хаты. Экипаж не дремал. Опытные вояки, они понимали, что скоро немец полезет нас выбивать. И точно. Вскоре к танку подошел молодой солдат и крикнул мне: «Товарищ лейтенант, танки противника!» Я сделал попытку открыть люк, чтобы осмотреться, но не успел поднять голову, как почувствовал удар пули по крышке люка, крошечный осколок отколовшейся брони поцарапал мне шею. Закрыв люк, я стал смотреть в триплексы в направлении, указанном мне солдатом. Справа, в полутора километрах, в обход крались по пашне два танка T-IV: «Ну вот, начинается… » Даю команду пехоте и своему экипажу: «К бою!» Приказал зарядить осколочным, ибо танки были далеко, и требовалась пристрелка. Снаряд разорвался в пяти — десяти метрах от переднего танка. Танк остановился — второй снаряд я влепил ему в борт. Второй танк попытался уйти, но со второго выстрела встал, и один из членов экипажа, выскочив из башни, побежал в поле. Начало утра 19 февраля 1944 года было хорошим, я расслабился и едва не был за это наказан — пуля стукнула по ребру люка, когда я пытался его открыть, чтобы осмотреться. Солдатик, который указал мне на танки, подошел и крикнул, что слева за оврагом какие-то немецкие офицеры рассматривают наши позиции в бинокли. Сказав это, он повернулся, чтобы отойти от танка, вдруг покачнулся и упал навзничь. Взглянув в триплекс, я увидел, как из его затылка вытекает струйка крови. Крикнув, чтобы его убрали, я приказал механику: «Петя, сдай танк задом и обогни дом в готовности вернуться на место». На малом ходу танк задом выполз из-за хаты. Я развернул башню и в прицел увидел четыре фигуры, лежащие на снегу сразу за оврагом, метрах в четырехстах от меня. Видимо, группа офицеров во главе с генералом, у которого воротник шинели был оторочен лисой, проводила рекогносцировку местности и моей позиции. Крикнул: «Фетисов, снаряд на осколочный!» Фетисов отвернул колпачок, доложил: «Осколочным готово!» Я прицелился, и снаряд разорвался точно в середине этой группы. Я сразу увидел не менее полусотни фигурок в белых халатах, бросившихся со всех сторон спасать раненых. Вот здесь я и отыгрался за паренька-солдата, выпустив в них пятнадцать осколочных снарядов. Таким образом, «успокоив» немцев, мы вернулись на свое место (правую сторону дома) и стали ждать дальнейших действий со стороны противника. Радио не отвечало на наши позывные. А у меня осталось всего четырнадцать снарядов. Из них — один подкалиберный, один бронепрожигающий и двенадцать осколочных, кроме того, по одному неполному пулеметному диску у меня и Епсукова. И вдруг из-за рощицы, что находилась левее нашей позиции, через дорогу выскочил самолет (на фронте мы его называли «капрони», итальянского производства, который хорошо пикировал). Развернулся и на высоте пятидесяти — семидесяти метров полетел вдоль оврага, что был левее деревни, на противоположном склоне которого я уничтожил группу немецких офицеров. Механик снова вывел машину из-за дома, и я стал наблюдать за самолетом. Развернувшись, самолет опять полетел вдоль оврага в нашу сторону. Немцы выпустили зеленые ракеты, он им также ответил зеленой ракетой. Еще раз развернулся, сбросил большой ящик и полетел дальше. Надо сказать, что вдоль противоположного края оврага, за небольшим кустарником, видимо, шла дорога, перпендикулярная той, что мы перекрыли, а вдоль нее телеграфная линия. Самолет курсировал вдоль этой линии и, зная примерно расстояние между столбами, я рассчитал его скорость. Она была небольшой, порядка 50 — 60 км/ч. Когда самолет сбросил груз и пролетел мимо нас, я решил, что, если он развернется, я попытаюсь его сбить. Даю команду Фетисову отвернуть колпачок и зарядить осколочным. Самолет разворачивается, я беру упреждение — и выстрел. Снаряд угодил ему прямо в мотор, и самолет переломился. Что тут было! Откуда только взялось столько немцев! Со всех сторон поле запестрело от оживших в снегу фигур противника, которые бросились к остаткам самолета. Забыв о том, что у меня мало снарядов, я раз десять выстрелил осколочными в эту бегущую массу фрицев. Поставив танк на свое место, справа от дома, я не мог успокоиться. Все, что угодно, но сбить самолет! Радио по-прежнему молчало, у меня боеприпасов на две цели и патронов на отражение одной атаки взвода автоматчиков противника. Время шло. На нашем участке — мертвая тишина, которая предвещала развязку. Я услышал, как один из пехотинцев мне кричит лежа, не поднимаясь: «Товарищ лейтенант, слева из рощи за оврагом вышел „Фердинанд“». Я даю Петру команду: «Подай немного задом в объезд хаты, как раньше». Выехав из-за дома, я увидел «Фердинанд» с пушкой, нацеленной на меня, но, видимо, он не успел взять меня в прицел, а я быстро спрятался за дом. Однако путь отступления был перекрыт. Ясно, что в ближайшие минуты они пойдут на прорыв. Атака гитлеровцев началась прямо в лоб, от дороги. Шло до сотни автоматчиков в маскхалатах, ведя огонь длинными очередями, будучи от меня примерно на расстоянии триста — четыреста метров. Вначале я не понял, откуда такая решительность. Будь у меня хотя бы десяток осколочных снарядов и четыре — пять пулеметных дисков, я бы их успокоил за несколько минут. За грохотом автоматных очередей я услышал шум мотора тяжелого танка: «Тигра» или «Пантеры». Значит, вот чем определилась их решительность! У них появился тяжелый танк. Кричу оставшимся трем — четырем пехотинцам, чтобы кто-нибудь из них выглянул из-за дома и посмотрел, что там у меня слева на дороге. Никто не откликнулся. Решение сложилось мгновенно: подпустить «Тигр» на двести метров и влепить ему в лоб последним подкалиберным снарядом, выскочив из-за дома. Командую механику: «Петя, заведи мотор и не глуши его, подпускаем „Тигр“ поближе, выскакиваем из-за дома и на счет „четыре“, не дожидаясь моей команды, сдавай назад». Дали с радистом по две короткие очереди из пулеметов, уложив несколько атакующих фигур. Шум двигателя теперь раздавался совсем близко. Крикнул механику: «Вперед!» и, выскочив из-за дома, увидел впереди, метрах в ста пятидесяти, «Тигр» с десантом, только что тронувшегося вперед после короткой остановки. Это мне и было нужно. Не дав своему танку погасить колебания от резкой остановки, беру в прицел немецкую машину и стреляю в лоб немецкого танка. Никаких последствий! Петр резко дернул танк назад, а я крикнул заряжающему Фетисову, чтобы зарядил осколочным. И тут увидел, что немецкие автоматчики остановились. Я выстрелил по ним в упор последним осколочным снарядом и увидел, как они побежали. Выскочив из-за дома на одно мгновение, мы замерли от увиденного. «Тигр» медленно охватывало пламя. Один из членов его экипажа наполовину свесился с башни. Прогремел взрыв. Фашистского танка не стало. Мы опять победили. Забыв о том, что у меня остался один бронепрожигающий снаряд, я приказал зарядить его и решил в дуэльном бою с «Фердинандом» уничтожить самоходку. Вместо того чтобы успокоиться, полез на рожон. Петр также, как это делал и раньше, в этом бою по моей команде подал танк задом из-за дома влево и свел меня с глазу на глаз с «Фердинандом», который и ждал меня, наведя заранее свое орудие. Он дал мне время взять его в прицел, однако в выстреле опередил, влепив мне болванку под погон башни. Стальная болванка разбила чугунные противовесы пушки, убила Фетисова и застряла в задней стенке башни. Второй снаряд разбил маску пушки и развернул башню танка, заклинив ее люк. Я крикнул: «Выпрыгиваем!» и попытался головой открыть заклинивший люк. После третьей попытки с трудом открыл его и практически с третьим выстрелом «Фердинанда», подтянувшись на руках, выскочил из танка, упав около него на землю. В полевой сумке прямо на борту башни я хранил английские диагоналевые брюки и гимнастерку, подарок английской королевы советским офицерам. Думал, если придется выпрыгивать, я их рукой схвачу. Какие тут брюки! Самому бы целым остаться! Увидел моего радиста-пулеметчика сержанта Елсукова, бегущего метрах в пятнадцати впереди. Обернулся и увидел, как убегавшие ранее немцы опять перешли в атаку. Они были всего метрах в ста пятидесяти от меня. Я бросился за радистом к ближайшим домам, но, пробежав несколько метров, услышал крик Петра Дорошенко: «Лейтенант, помоги!» Обернулся и увидел Петра, повисшего в люке механика-водителя, зажатого его крышкой. Под огнем вернулся к нему, оттянул люк вверх, помог ему выбраться, а затем, взвалив его на плечи, понес на себе. На его фуфайке проступали все увеличивающиеся в размерах семь красных пятен. Впереди перед домами пролегала канава, которая простреливалась с противоположного берега оврага. Прикинул, что я ее перепрыгну, и перепрыгнул бы, но за 2 — 3 метра до моего подхода к канаве противник вдруг прекратил огонь, очевидно, менял ленту или диск, и я свободно перешагнул через нее, неся на себе Петра Дорошенко. До крайних хат оставалось где-то двадцать — тридцать метров, когда я увидел, как артиллеристы нашего МСБ выкатывают два орудия, готовясь к бою, а наши автоматчики, развернувшись в цепь, пошли в атаку. У меня в глазах потемнело, и силы оставили меня. Ко мне подбежали ординарец командира батальона капитана Зиновьева и девушка-санинструктор, подхватили Петра Дорошенко. На повозке нас отвезли в деревню, откуда вчера я начал этот бой. Командир бригады вышел встречать меня на крыльцо, обнял, поцеловал, сказал: «Спасибо, сынок» и ввел в хату, где я рассказал о выполнении приказа. Выслушав меня, командир бригады сказал, что командование представляет меня к званию Героя Советского Союза, механика-водителя Петра Дорошенко — к ордену Ленина, заряжающего сержанта Фетисова — к ордену Отечественной войны I степени (посмертно) и радиста-пулеметчика сержанта Елсукова — также к ордену Отечественной войны I степени. Надо сказать, что это было второе представление на Героя, однако Золотую Звезду я получил только в 1992 году. Оказав первую врачебную помощь Петру Дорошенко, медики взялись за меня. Пинцетом медсестра подцепила небольшой осколок, который наполовину вошел в область шеи. Затем попросила меня встать, но я не смог. Резкая боль в правом колене заставила меня сесть. Стали снимать сапог, но он не поддавался из-за резкой боли в ноге. Командир бригады Федор Андреевич Жилин одернул их: «Что стоите, режьте голенище сапога». А на мне те самые трофейные сапоги, что Петр Тюрин достал мне в разгромленном обозе. Я взмолился, чтобы не портили такие чудные сапоги. «Режьте, — приказал он, — а тебе, сынок, дарю свои хромовые, которые мне пошили и привезли сегодня утром». Сказав это, он поставил около моего стула отличные хромовые сапоги. Разрезав сапог и правую брючину и открыв колено, я увидел, что оно распухло и увеличилось раза в полтора. Видно, несколько осколков попало в колено. Я все никак не могу успокоиться — меня всего трясет. Командир приказал дать мне водки. Я полстакана выпил, как воду, и вскоре уснул. К вечеру нас с Петром отправили в тыл. Его отвезли в госпиталь для тяжелораненых, а я, пройдя через ряд прифронтовых госпиталей, оказался в городе Тараща в госпитале для легкораненых. Госпиталь был развернут на скорую руку, был плохо оборудован и грязен. Раненые лежали в приемном отделении на грязном полу, и никто о них не заботился. Я сразу же решил оттуда выбираться. Добыв палку, доковылял до дома одной из девушек, жившей в пригороде Лысая Гора, у которой мы собирались в январе, когда мой танк был подбит. Приняли меня очень хорошо, а компрессы из домашнего самогона поставили меня на ноги в течение недели. Долечивался я уже дома, в Арзамасе, получив отпуск у командира бригады. В апреле я вернулся в бригаду, штаб которой располагался в деревне Бокша, на границе с Румынией. Однако командовал ею уже не Жилин, а подполковник Павловский, который, как мне показалось, больше занимался концертами художественной самодеятельности, чем подготовкой бригады к боям. На другой день после моего прибытия он вызвал меня к себе и в присутствии начальника политотдела подполковника Молоканова и своей полевой жены, которую он привез с собой, немного расспросив меня, объявил: «Я вас назначаю своим командиром танка и одновременно будете моим адъютантом». Он только что приехал на фронт, и мой орден Красного Знамени, полученный вместо Звезды Героя за взятие Киева, видимо, действовал ему на нервы. Я ответил, что такой должности — адъютант — у командира бригады нет, а командиром танка за год моего участия в боях я уже походил, и если я в бригаде не нужен и не достоин должности хотя бы командира танкового взвода, то прошу меня направить в резерв. «Ах, вот как, — воскликнул он, — тогда идите». Забегая вперед, скажу, что этого «полководца» сняли после первых же боев, но он к этому времени практически угробил бригаду. Правда, меня в ней уже не было. Наутро мне сообщили, что я должен пойти в свой бывший 207-й гвардейский танковый батальон на должность командира взвода. Придя в батальон, я тоже не был обрадован. Оказывается, батальоном командовал майор, согнувшийся старичок в очках, прибывший тоже с тыла и не имеющий боевого опыта. Ну, подумал я, довоевался. Мне стало страшно за бригаду. И вдруг узнаю, что в бригаде создается и третий батальон, командиром которого назначен Дмитрий Александрович Пузырев, опытный танкист. Я попросился к нему, и меня, слава богу, отпустили. Все лето 1944 года готовились к наступлению. Получали технику. Правда, нам не дали ни одного Т-34-85, а прислали только с 76-мм пушкой. Стояли мы в капонирах, вырытых на склоне виноградника. В километре пред нами располагался монастырь. Вдруг из-за каменной стены ограды выползает «Тигр». Остановился. За ним еще один, потом еще. Выползло их десять штук. Ну, думаем, — хана, достанут они нас. У страха-то глаза всегда велики. Откуда ни возьмись, идут два наших ИС-2.  Я их в первый раз увидел. Поравнялись с нами, встали. Два «Тигра» отделяются и выходят чуть вперед, вроде как дуэль. Наши упредили их с выстрелом и снесли обоим башни. Остальные — раз, раз и за стену. В это время слышу по радио: «Фадину, Фадину прибыть на КП к командиру батальона». Из штаба батальона отправили в штаб бригады, а оттуда — в штаб корпуса, где меня дожидался орден Александра Невского и направление на учебу в Ленинградскую высшую бронетанковую школу им. Молотова, готовившую командиров рот тяжелых танков ИС. Войну я окончил в Вене в должности заместителя командира роты 20-й гвардейской танковой бригады. Танков у нас уже не было, и мы находились в резерве. Зампотех роты, Виктор Тарасович Чебудалидзе, который воевал чуть ли не от Сталинграда, говорит: «Лейтенант, я амфибию подобрал с воздушным охлаждением, идет 200 км/ч. Давай съездим в Париж, посмотрим, какие там девочки, как, чего?» И мы удрали, танков-то все равно не было, а я с детства мечтал посмотреть Париж. Правда, это нам не особо удалось — сплошная кутерьма, девки хватают, целуют. Там такая везде суматоха, и англичане, и американцы — все братаются. День мы там провели и вернулись к себе в бригаду, получив нагоняй за самоволку. КИРИЧЕНКО ПЕТР ИЛЬИЧ
Я родился в интеллигентной семье в Таганроге. Мой отец, горный инженер, закончил Петербургский горный институт. Мать — преподаватель немецкого языка. В тридцать шестом году мы переехали в Москву. Здесь до войны я закончил немецкую школу, где все преподавание велось на немецком языке, так что язык я знал неплохо, что потом помогло на фронте. Я не собирался быть военным, тем более танкистом, но началась война, и я, как и многие, был призван в армию. Сначала меня направили в Челябинскую военную авиационную школу стрелков-бомбардиров, которая готовила штурманов на самолеты СБ. Они уже были сняты с производства, и после нескольких месяцев занятий школу расформировали, а курсантов разбросали по различным учебным заведениям. Вот так я попал в учебный танковый полк в Нижнем Тагиле. Батальон, в котором я оказался в результате распределения, готовил стрелков-радистов на Т-34. Честно говоря, после авиационного училища, где мы изучали сложные радиостанции, где у нас были радиотренажи и мы сдавали диктанты, передавая до ста двадцати знаков смешанного текста в минуту, для нас изучение простенькой танковой радиостанции было пустяковым делом. То же самое можно сказать и о пулемете ДТ, который по сложности конструкции не шел ни в какое сравнение со скорострельными авиационными пулеметами. Так что через месяц обучения нам присвоили звание «старший сержант» и направили в маршевую роту, которая находилась там же, в Нижнем Тагиле, на танковом заводе. Там укомплектовали экипажи, в которые вошли бывшие курсанты, обучавшиеся другим специальностям.  В экипаже было четыре человека. Механик-водитель Кутдуз Нурдинов, татарин лет двадцати пяти, единственный из нас служил в армии до войны. Башнер Тютрюмов Анатолий Федорович был таким же, как и я, восемнадцатилетним пацаном. Командовал танком украинец Гаврилко, который мне тогда казался стариком — ему было двадцать два или двадцать три года. Весной сорок второго года нас отправили на фронт. Какова моя роль в экипаже? Я занимался обслуживанием радиостанции. Дальность связи на ходу у нее была около шести километров. Так что между танками связь была посредственная, особенно если учесть неровности рельефа местности и леса, которые мешали прохождению радиосигнала. Зато она могла ловить новости, причем как московские, так и заграничные. Это было очень большим недостатком! Как только образовывалась какая-нибудь передышка, так обязательно к танку приходили слушать сводки Совинформбюро политработники, «особняки» и прочее начальство. Радиостанция питалась от генератора при работающем двигателе или от аккумуляторов, когда двигатель выключен, но когда двигатель работает, то слышно хуже, и они предпочитали включать ее от аккумуляторов, которые к концу передачи сажали. Я, как ответственный за связь, всегда был виноват перед экипажем. Начальство разрядит аккумуляторы, а мне приходилось на своем горбу таскать их на подзарядку. Честно говоря, я считаю, что радист в Т-34 был не нужен. Схема связи — простейшая, с ней бы справился любой член экипажа, ведь работали, как правило, на одной — двух волнах. Так что радист как связист был ни к чему. Да он и как пулеметчик был ни к чему. Обзор через эту дырочку над стволом пулемета был ограниченный, а сектор обстрела и того меньше. Иногда пулемет повернешь, видишь, что кто-то бежит, а стрелять не можешь. Когда машина движется, так вообще ничего не видно, только земля-небо мелькают. Ну, а поскольку, кроме связи и пулемета, я ничего не знал, то в экипаже в основном использовался на подсобных работах. Чистил вместе со всеми пушку, гусеницы тянул, пополнял боекомплект, заправлял танк. Моя физическая сила была востребована. Боеприпасы, как правило, нам сбрасывали на землю в ящиках. Для того чтобы их уложить в боеукладку, нужно их обтереть от смазки — это моя обязанность, потом отдельно разложить бронебойные и осколочные. Зимой приходилось таскать горячую воду. Антифриза не было, поэтому на ночь воду из системы охлаждения сливали, а утром нужно на костре разогреть воду и ее залить. Танк приходилось все время чистить, особенно зимой. Все в грязи: ходовая, крылья; если не почистить, то все это смерзнется, и танк сломается. Внутри машины тоже всегда что-то подтекает: масло или горючее; лужи какие-то на полу образуются, их тоже приходилось все время убирать. 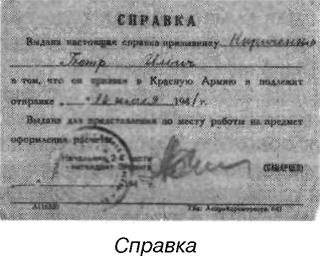 Но надо сказать, что внутри экипажа никакой дедовщины или чего-то подобного не было. Наоборот, механик-водитель, который был старше нас, даже старше командира машины, был для нас как бы «дядькой» и пользовался непререкаемым авторитетом, поскольку уже служил в армии, знал все ее мудрости и хитрости. Он нас опекал. Не гонял, как салаг, заставляя работать, наоборот, старался нам во всем помочь. Да и командир прислушивался к его советам. Ну, конечно, своя иерархия была. Командир есть командир — он получал информацию, приказы, знал обстановку. Механик-водитель — вторая по рангу фигура в танке, и мы с заряжающим во всем ему подчинялись и помогали. Например, на марше, поскольку я рядом с ним сижу, в мою задачу входила помощь в переключении передачи. На Т-34-76 стояла четырехскоростная коробка передач. Переключение передачи требовало огромных усилий. Механик-водитель выведет рычаг в нужное положение и начинает его тянуть, а я подхватываю и тяну вместе с ним. И только после некоторого времени дрожания она включается. Танковый марш весь состоял из таких упражнений. За время длительного марша механик-водитель терял в весе килограмма два или три: весь вымотанный был. Кроме того, поскольку руки у него заняты, я брал бумагу, сыпал туда самосад или махорку, заклеивал, раскуривал и вставлял ему в рот. Это тоже была моя обязанность. В экстремальной ситуации я мог заменить механика-водителя. Т-34 — машина простая, поэтому я довольно хорошо научился ее водить и стрелять из орудия. В училище этому не учили, а вот когда сколачивали экипаж, тогда механик меня обучал. У нас была взаимозаменяемость в экипаже, но она была как бы стихийной — жизнь заставила, а не Устав. Из Нижнего Тагила нас перевезли под Москву, где формировалась и доукомплектовывалась 116-я танковая бригада, которую летом 1942 года перебросили под Воронеж. Разгружались мы под бомбежкой на станции Отрожка, а затем получили приказ выдвинуться в район Касторной и там занять оборону для отражения атаки танков и пехоты противника. Однако первой появилась его авиация, которая в течение нескольких дней практически уничтожила бригаду. Потери были колоссальные. Действовали они безнаказанно: очень аккуратно выстроятся кружочком, один спикирует, второй, третий… отбомбились и спокойненько улетают. К тому моменту, когда подошли пехота и танки противника, в нашей бригаде оставалось незначительное количество машин. Конечно, мы пытались обороняться, но в первом же бою нашу машину подбили. Пред тем как мы пошли в бой, командир машины, предчувствуя, что погибнет, обнялся с механиком-водителем, расцеловал нас, мальчишек, потрепал по голове. Сразу стал очень бледным и серьезным. Чувствовалось, что он не в себе… Болванка попала в борт башни. Танк наполнился гарью и дымом. Командиру оторвало руку и разворотило бок. Смертельно раненный, он сильно кричал: «Ай-ай!» Это очень страшно… Пытались какой-то бандаж сделать, замотать рану, но помочь не могли — он уже был при смерти, потеряв очень много крови, весь почернел, запросил пить. Так и скончался в танке. Мы остались без командира, офицеров поблизости нет… Пушка у нас не действует, но танк оставался на ходу. Рядом с нашим стоял обездвиженный танк, но с действующим орудием, экипаж которого продолжал отстреливаться. Я тоже сидел за пулеметом, стараясь не подпустить близко немцев, но ни черта не видел, поскольку танк остановился посреди созревшего хлебного поля, колосья которого закрывали обзор. Иногда кто-то появится, тогда стрелял. Стемнело. Никого нет, а мы слышим, что нас уже обошли — сзади война идет, немецкие колонны правее движутся. Вроде того что на нашем участке они и не прошли, а с флангов окружили. Решили выбираться. Подцепили соседа на буксир и поволокли к своим. Куда ни ткнемся — везде немцы. Кое-как, оврагами, выехали к Касторной, где наткнулись на офицера из нашей бригады, приказавшего двигаться в направлении Воронежа. Голодные! Помню, в Касторную залетели, там уже населения нет, все магазины открыты. Забежали в один, схватили коробку с яйцами. Невероятное количество сырых яиц мы тогда съели. И никаких последствий! Числа 11 — 12 июля добрались до Воронежа. А сами боимся — ведь мы же драпанули. Как к нам отнесутся? Думали, то ли нас расстреляют, то ли что… но вроде танки не бросили, все сделали, как надо. Никаких орденов мы за это, конечно, не ожидали, чувствуя вину за свой драп-марш. Слава богу, все обошлось. Вместе с подбитым танком нас отправили на ремонтный завод в Москву. Следующий раз в боях мне пришлось участвовать уже зимой под Ржевом, в Ржев-Сычовской наступательной операции, где наша 240-я бригада действовала в полосе 30-й армии. Пока готовились к наступлению, нас переодели в зимнее обмундирование, дали ватники, валенки, но, когда ты ползаешь в танке, одежда очень быстро выходит из строя, становится грязной, а замены нет. Я постоянно чувствовал себя каким-то бомжом, хотя в то время такого понятия и не было. Вшей было много, особенно летом. Буквально в первые же дни, после прибытия на фронт, они появились у всех сразу. А тогда ни вошебоек, ни бань не было — мучились. Мы даже в Москву вшей привезли и только на формировке избавились от них. Где спали? При подготовке к наступлению жили в землянках, а в наступлении все спали в танке. Хотя я был длинный и худощавый, но я приноровился спать на своем сиденье. Мне даже нравилось: откидываешь спиночку, приспустишь валенки, чтобы о броню ноги не мерзли, и спишь. А после марша хорошо спать на теплой трансмиссии, накрывшись брезентом… Брезент — это самая важная часть танка! Особенно зимой без него вообще никак: машину не разогреешь, ветер дует, мороз пробирает, а натянешь его — и вроде дома… С кормежкой в этот период было хорошо: всегда полные котелки борща, каши с мясом от пуза и спирт перед наступлением. Пошли в наступление. Наша бригада форсировала по льду Волгу и закрепилась на ее правом берегу, создав плацдарм. Недели две мы вели бои за его расширение. Однажды под вечер наш танк, участвуя в атаке, провалился в запорошенный снегом, но не замерзший ручей. Правый берег его был крутой и обледеневший. Все попытки выбраться из ручья не увенчались успехом — танк застрял, кормой погрузившись в воду, которая постепенно стала проникать в машину. Боевое отделение, находившееся выше уровня воды, оставалось сухим, а двигатель и трансмиссия оказались в воде. Немцы неоднократно открывали огонь по нашему танку, намереваясь подойти вплотную и, уничтожив экипаж, захватить танк. Из моего пулемета можно было стрелять только в воздух, а из пушки и спаренного с ней пулемета командир еще вел огонь, не подпуская немцев. Получилось так, что наш танк остался один на нейтральной территории. Когда стемнело, командир приказал мне выбираться к своим и рассказать в бригаде, в каком положении мы находимся. Вот тут мне помогло знание немецкого языка, когда приходилось идти мимо их окопов. Слыша их речь, я понимал, в каком состоянии они находятся и что собираются делать. Дошел к своим, доложил обстановку командиру батальона, а утром, когда пошла в атаку пехота, на выручку нашему танку был направлен танковый взвод с мотопехотой. Немцы были отброшены с нейтральной полосы, а наш танк выволокли на берег. За эти бои я был награжден медалью «За отвагу», а вскоре меня направили в Челябинское танко-техническое училище. Учили материальной части, эксплуатации и ремонту в полевых условиях танка КВ. Преподавали нам и огневую подготовку — стреляли из танка. Давали пятнадцать часов вождения по танкодрому. Тщательно изучали двигатели, трансмиссию и ходовую часть, причем практику проходили прямо на заводе. Преподавательский состав был сильным. По окончании училища, в котором я проучился около года, мне было присвоено звание «младший техник-лейтенат». Весной сорок четвертого я был направлен в 1-й танковый корпус, в 159-ю бригаду, в роту технического обеспечения танков. Под моей командой находились шофер подвижной ремонтной станции и четыре слесаря. Сначала у меня была летучка «типа А» на шасси «ГАЗ-АА». В ней стоял верстак с тисками, были ящики с инструментом и таль. Запчасти для ремонта нам привозили со складов или мы снимали их с подбитых машин. Потом я вместо нее подобрал трофейную немецкую машину с дизельным двигателем и большим деревянным кузовом «Клекнер-Дойц». На ней было очень сложное электрооборудование, которое зимой вышло из строя. Я нашел немецкого техника, привез его ремонтировать, а он руками разводит: «Электрик капут». Оказывается, сам ничего не знает. В поврежденных или технически неисправных танках мы ремонтировали все, за исключением вооружения. Тут иногда знание немецкого языка помогало. На ремонтниках лежала тяжелая задача вытаскивать останки наших танкистов. Так вот я довольно часто звал немецких пленных, которых в то время было много, и они мне помогали выгребать растерзанные трупы, убирать, чистить.  Наша бригада участвовала в штурме Кенигсберга. Перед этим пришла колонна танков «Лембиту», подаренная корпусу гражданами Эстонии. Лембиту — национальный герой эстонского народа, который прославился в XII веке тем, что боролся с Тевтонским орденом, а потом заключил союз с Новгородом. Таким образом, он символизировал не только борьбу эстонцев против немцев, но и эстонско-российскую дружбу. В этих боях бригада не участвовала как самостоятельное подразделение, а ее танки вошли в состав штурмовых групп, состоявших из пехоты, артиллерии и самоходок. Вот эти штурмовые группы 6 апреля 1944 года начали штурм города. Бои были тяжелыми, потери несли немалые. Много было побито танков и погибло людей. Немцы сопротивлялись фанатично. Дрались за каждый камень, подвал, дом. Тем не менее за четыре дня нам удалось сломить их сопротивление, и 9-го числа они капитулировали. Мы, ремонтники, носились по городу и его предместьям, искали наши подбитые танки, восстанавливали. А ведь немцы рядом. Обстановка была напряженная. К концу этой операции нам удалось восстановить почти все подбитые машины, кроме небольшого числа сгоревших. За это я был награжден орденом Красной Звезды. Сталкивался ли я со случаями специального выведения танка из строя? Нет. Один только раз механик-водитель, забыв вовремя сменить воду на антифриз, разморозил двигатель. Надо идти в атаку, танк не работает. Двигатель быстро заменили, но халатность механика была расценена как трусость, и его едва не отправили в штрафную часть, но, поскольку он был очень хорошим механиком-водителем, за него заступились. Правда, после боев не наградили, как остальных. В конце войны, когда в бригаде почти не осталось танков, оставшиеся машины мы передавали в другую бригаду. Встал вопрос, кого из командиров с этими танками отправлять воевать дальше, а кого оставить в резерве. Воевать уже никому не хотелось — конец войны. А я в минуты отдыха организовывал самодеятельность. У нас в бригаде был оркестрик, эстрадная группа, в которой участвовали и командиры машин. Один из них попросил поговорить с замполитом, чтобы его оставили, мол, он участник нашего ансамбля. Я так и сделал — его оставили. 9 мая мы праздновали Победу: повсюду стрельба в воздух, шум-гам, веселье. Кончилась война. Как к немцам относились? Для меня это сложный вопрос. Мои сверстники столкнулись с немцами уже на фронте, когда те с оружием в руках, с самолетами и бомбами напали на нас. Отношение простое — врага надо уничтожать, как только его увидишь. Помните стихотворение Симонова: «Сколько раз его увидишь, столько раз его убей!» У меня сложнее, поскольку в немецкой школе, где я учился, и преподавательский состав, и большинство школьников были из политэмигрантов, бежавших из Германии от фашистов. Они были большими антифашистами, чем мы, которые о фашизме знали только понаслышке. Отношение к ним было самое братское и теплое. Что касается немцев на фронте, тут нет вопросов. Нас убивают, уничтожают, какое тут может быть отношение? Правда, в ходе войны даже и к ним менялось отношение по мере изменения обстановки на фронте. В начале войны это были наглые, молодые, здоровые люди, которые, даже попадая в плен, вели себя высокомерно. Видал я таких: «Сегодня вы меня взяли, а завтра все равно будете мне сапоги лизать! Вы недочеловеки!» Но, когда мы их начали бить, спеси в них поубавилось. К концу войны попадались в основном пожилые немцы или безусая молодежь, которым уже было не до мирового господства. Они были какие-то растерянные, хотя дрались до последнего дня фанатично, но уже, конечно, не за жизненное пространство на Востоке, а считая, что, если эти варвары придут в Германию, то всех в Сибирь пошлют, женщин изнасилуют, устроят везде колхозы — наведут коммунистические порядки. Они действительно стояли насмерть, но, когда попадали в плен, я видел какое-то облегчение на лицах: «Слава богу, война для меня окончилась». Отношение наших солдат к мирному населению Германии тоже было разное. Те, кто пострадал от немцев, у кого родные были расстреляны, угнаны, а их дома разрушены, они первое время считали себя вправе и к немцам относиться так же: «Как?! Мой дом разрушили, родных убили! Я этих сволочей буду крошить!» Но поскольку народ у нас более-менее отходчивый, то довольно быстро появилась жалость. Я помню, в Пруссии, в одном городке, со мной произошел такой случай. Я подъезжаю на своей летучке к какому-то дому, чтобы заправиться водой. У входа в подвал стоит часовой. Из подвала доносятся какие-то голоса. Я у часового спрашиваю: «Кто там такие?» — «Да фрицы. Не успели сбежать. Семьи там. Бабы, мужики, дети. Мы их всех сюда заперли». — «Для чего они тут содержатся?» — «А кто знает, кто они такие, разбредутся, потом ищи. Хочешь, пойди посмотри». Я спускаюсь в подвал. Сначала темно, ничего не вижу. Когда глаза немного привыкли, увидел, что в огромном помещении сидят эти немцы, гул идет, детишки плачут. Увидев меня, все затихли и с ужасом смотрят — пришел большевистский зверь, сейчас он будет нас насиловать, стрелять, убивать. Я чувствую, что обстановка напряженная, обращаясь к ним по-немецки, сказал пару фраз. Как они обрадовались! Потянулись ко мне, часы какие-то протягивают, подарки. Думаю: «Несчастные люди, до чего вы себя довели. Гордая немецкая нация, которая говорила о своем превосходстве, а тут вдруг такое раболепство». Появилось смешанное чувство жалости и неприязни. Так что отношение менялось от братских чувств к довоенным немцам, через звериную ненависть к ним в начале войны до вот такого сожаления. БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 Я родился 15 сентября 1925 года в городе Урюпинске Волгоградской области. 22 июня 1941 года я собрался на рыбалку с друзьями. Мне друг говорит: «Слушай, в двенадцать часов будет Молотов выступать». — «Что такое?» — «Объявили войну». Весь учебный 1941/42 год я проучился в девятом классе. Летом сорок второго, когда немец подошел близко к Сталинграду, мои одноклассники, которые были постарше меня, ушли добровольцами на фронт и почти все погибли. А мы, пацаны, записались в истребительный батальон города Урюпинска. Задача батальона была ловить шпионов, диверсантов, охранять военные объекты, следить за светомаскировкой. Не хватало мужчин, поэтому руководство города обратилось к комсомольцам с просьбой помочь. Нам выдали винтовки с патронами, и мы патрулировали по городу, охраняли райком партии, городской совет, помогали охранять маслозавод, Ленинский завод, который в войну делал минометы. Диверсантов мы ни разу не поймали, а вот вылавливать воров и жуликов приходилось. Осенью того же года я поступил в Сельскохозяйственный техникум. В ноябре, когда готовилось наступление под Сталинградом, в город прибыло много войск. В соседних с нашим домах остановились танкисты. Я к ним повадился ходить и, как говорится, влюбился в «тридцатьчетверку». Танкисты мне ее показали, рассказали ее характеристики. В общем, выдали военную тайну. Командиром у них был лейтенант Сергей Антонович Отрощенко. Представляешь, в сорок четвертом году я прибыл в Субботицу, на 3-й Украинский фронт, и попал в батальон, которым он командовал, став к тому времени майором. Проучился я в техникуме полтора года, и в 1943 году, в возрасте семнадцати с половиной лет, был призван в армию. Нас не принимали, но мы так просились, что военком сжалился над нами и направил в 1-е Саратовское танковое училище. Еще в школе я научился хорошо стрелять и обращаться с оружием, знал и устройство трактора. Так что учеба мне давалась легко. Поэтому через два месяца после принятия присяги мне уже присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром отделения, а затем и замкомвзвода. Курсанты ходили в ботинках с обмотками, а нам, «начальству», выдали латаные-перелатаные кирзовые сапоги. Чистить чем? Крема не было. Брали сахар, замачивали до кашеобразного состояния и этой кашицей драили сапоги — блестели, как хромовые! В столовой за столом сидело восемь человек. На завтрак, обед и ужин давали бачок с едой и белый или черный хлеб, а к завтраку еще и двадцать грамм масла. На обед обязательно первое, второе и компот. Вермишель с тушенкой — я такую дома не ел! Так нас кормили. 9-я норма! Поправились здорово, а все равно голодными были — нагрузка-то большая. Вставали в 6 часов. Вне зависимости от погоды в нижней рубашке, галифе и сапогах бежали на физзарядку. Потом занятия восемь часов, потом самоподготовка, пара часов личного времени и отбой в 23 часа. На обед идешь, командир роты из-за угла смотрит, как идет рота. Только доходим до столовой, выскакивает: «Рота, кругом!» Еще кружочек — «плохо идете, песни поете плохо». Поели, выходим разморенные. Он на крыльце стоит: «Пятнадцать минут строевой подготовочки». Вот так приучались к порядку, к дисциплине. В училище мы пробыли очень долго — восемнадцать месяцев. Около года учились на «Матильдах» и «Валентайнах», потом на Т-34. Учили нас хорошо. Теорию проходили в классах, а практику на полигоне, где занимались неделями — водили, стреляли, разбирали тактику действия одного танка и танка в составе подразделения. Причем изучали не только действия танков, но и пехоты, поскольку требовалось умение взаимодействовать с десантниками. Командовал нашим учебным батальоном старый кавалерист Бурлаченко, воевавший в Гражданскую войну, финскую и даже в начале Отечественной. Командир роты Дравенретский на фронте не был. К концу обучения я водил и стрелял очень неплохо. Практику вождения и тактику проходили на Т-26 и БТ-7, а стреляли из танков, на которых обучались. Сначала из «Матильд» и «Валентайнов», а потом из Т-34. Честно говоря, мы боялись, что нас могут выпустить на иностранных танках: «Матильда», «Валентайн», «Шерман» — это гробы. Правда, броня у них была вязкая и не давала осколков, зато механик-водитель сидел отдельно, и если ты башню повернул, а в это время тебя подбили, то водитель уже никогда из танка не выберется. Наши танки — самые лучшие. Т-34 — замечательный танк. Выпустили нас в августе 1944 года, присвоив звание «младший лейтенант», после чего повезли на завод в Нижний Тагил, где распределили по маршевым ротам. Где-то месяц мы позанимались тактической, огневой подготовкой, вождением. Дали нам экипажи, привели на завод, показали бронекорпус: «Вот ваш танк». Мы вместе с рабочими насаживали катки, помогали, как могли. На сборке работали специалисты высокого класса. Были там пацаны-водители по тринадцать-четырнадцать лет. Представляешь, громадный цех, справа и слева идет сборка танков. А по центру со скоростью километров тридцать несется танк, за рычагами которого сидит такой пацан. Да его просто не видно! У танка ширина была примерно три метра, а ширина ворот — три двадцать. Танк проскакивает на этой скорости в ворота, влетает на платформу и застывает как вкопанный. Класс! Танк мы себе собрали, укомплектовали и пошли на нем пятидесятикилометровый марш с боевой стрельбой на полигоне. Тут надо пару слов сказать о моем экипаже. Механик-водитель имел десять лет судимости и после краткосрочного обучения танком практически не владел. Наводчиком орудия был бывший директор саратовского теплоходного ресторана, взрослый мужик в теле, который еле влезал в танк. Заряжающий — 1917 года рождения, с небольшой умственной недостаточностью. Пятого члена экипажа не было. Вот такой экипаж — все без боевого опыта!  Мы совершили марш и вышли на полигон стрелять. По команде «Вперед!» пошли на огневой рубеж. Командую: «Осколочным заряжай!» Заряжающий хватает снаряд. Зарядил. Короткая. Наводчик стреляет — в молоко. Я ему кричу: «Возьми прицел поменьше». Заряжающему: «Заряжай!» А заряжающего нет — убежал к механику, испугавшись отката. Я его схватил за шиворот, выволок: «Ну-ка, заряжай». Отстрелялись мы слабо. Вернулись, погрузились в эшелон и поехали через Москву, Украину, Молдавию в Румынию. Перед погрузкой на платформы нам выдали громадный брезент, примерно десять на десять метров. Я оставил заряжающего охранять танк: «Смотри, чтобы не сперли брезент». Утром встаем — брезента нет. Всех созвал: «Где брезент? Как хотите, а брезент чтобы к отправке был». Где взяли неизвестно, но брезент принесли. По дороге заряжающего с дизентерией оставили в госпитале. Уже в Румынии у наводчика распух палец, и его тоже госпитализировали. Так что в расположение 170-й танковой бригады в сентябре 1944 года мы приехали вдвоем с механиком-водителем. При этом он по дороге чуть не сжег тормозную ленту, не отрегулировав зазоры. Когда приехали, командир роты, Брюхов Василий Павлович, собрал всех командиров танков и взводов: «Смотрите, у нас в резерве есть три хороших танкиста, желающих идти в бой. Если кто считает, что экипаж не соответствует, мы можем заменить». Я попросил заменить мне механика-водителя, ну а наводчика и заряжающего дали новых. Надо сказать, что Василий Павлович был из разряда отцов-командиров. Талантливый, храбрый человек. Настоящий военачальник. Он всегда действовал в авангарде. Кто в дозоре? Всегда Брюхов! Решал задачи маневром, в лобовые бои не ввязывался. Не случайно в двадцать лет стал командиром батальона. Молодежь всегда опекал, в бой пошлет тех, кто уже раньше воевал, а ты, пока не освоился, идешь вторым или третьим. Вот от таких опытных танкистов мы получили огромную помощь при подготовке к боям. Они учили нас премудростям и хитростям танкового боя. Объясняли, как двигаться, лавировать, чтобы не словить болванку. Заставили снять пружины на защелках двустворчатых люков командирской башни. Ведь ее даже здоровый человек с усилием открывал, а раненый никогда бы этого не смог сделать. Объясняли, что люки лучше держать открытыми, чтобы легче было выпрыгнуть. Пушки пристреляли заново. Все сделали, подготовились. И вот первая атака. Собрали командиров: «Рощу видите? Там противник. Задача — обойти эту рощу и выйти на оперативный простор». Сели в танки. Команда — вперед! И мы пошли. Едешь, стреляешь, справа танк горит, слева танк горит. Экипаж успел выскочить или нет, не видно. Наводчик ведет огонь. Ему командуешь: «Правее 30 — пушка. Левее 20 — пулемет. Осколочным». Желание только одно — подойти ближе, чтобы противник не мог стрелять, побыстрее его уничтожить. Снаряд за снарядом посылаешь туда, откуда стреляют. Подъехали к немецким позициям — орудия перевернуты, трупы валяются, бронетранспортеры горят. Рощу захватили, обошли ее, вырвались на простор. Впереди, в километре, бегут немцы, орудия везут. Некоторые орудия разворачиваются. Мы остановились, стреляем. Они их бросают и бегут — Вперед! Я засмотрелся на панораму боя, и вдруг танк нырнул в широкую канаву и зацепил стволом песок. Остановились. Достали ершик, прочистили орудие. Догнали роту, которая к тому времени ушла примерно на километр. Это был первый бой. А потом этих боев было… Особенно тяжелые бои были в районе Секешфехервара. Там я уничтожил свой первый танк. Это было во второй половине дня. Мы атаковали, и вдруг слева из-за лесочка, примерно в 600 — 700 метрах, правым бортом к нам выполз танк. Как мы потом уже выяснили, у немцев были подготовлены капониры, и, видимо, он полз в один из них занять позицию для обороны. Я заряжающему говорю: «Бронебойным». Наводчику: «Правее рощи. Танк». Он ему как врезал в борт — тот загорелся! Однажды в декабре, когда мы окружали немецкую группировку, после ночного марша мы встали на отдых. Замаскировали немножко танки и легли спать. Утром просыпаемся — в трехстах метрах от нас, на возвышенности, стоят замаскированные под копны «Тигры». Мы быстрее сматываться. Завели машины и вывели танки в лощину. По ней зашли этим «Тиграм» во фланг и начали обстреливать. Пару танков сожгли. Три наших танка вышли на левый склон лощины, где их быстро сожгли не видимые нами танки, стоявшие где-то справа. Потом наш сосед, видимо, продвинулся, немцы ушли, и только тогда нам удалось продолжить движение. Наступали мы днем и ночью. В ночь на 26 декабря 1944 года захватили город Эстергом на берегу Дуная. Видим, с запада идет колонна, машин двадцать. Мы рассредоточились, танки поперек дороги поставили. Передняя машина уперлась в танк. Водителю кричат: «Хенде хох». Он выскакивает, его из автомата срезали, остальных кого постреляли, кого в плен взяли. А в машинах — колбасы, сыры. Затарились продуктами. На западной окраине города переночевали, а утром, построившись в колонну, пошли дальше. Впереди взвода три танка — головной дозор. Я следом за ними. Только вышли из города, как по головным танкам открыли огонь из рощи, что росла недалеко от дороги. Все три танка были уничтожены. Мы откатились к городу и, не ввязываясь в бой, по полю обошли эту рощу, выйдя на какую-то железнодорожную станцию. Там мы захватили эшелон легких танков, которые оставили следовавшим за нами трофейным командам. Через горы вышли к городу Камаром, при подходе к которому 30 декабря сорок четвертого года я был ранен. Из засады немецкий танк врезал нам. Болванка попала в башню, от удара меня контузило, я сломал левую руку, да еще вдобавок меня немного поранило осколками брони. Второй снаряд нам влепили в трансмиссию. Танк загорелся, но мы все успели выскочить. В госпитале я провалялся почти до середины февраля 1945 года, а когда выписался, то попал в другой батальон уже на должность командира взвода. Мы стояли во второй линии обороны между Келец-озером и Балатоном. Закопали танки, под танком вырыли яму для экипажа, оборудовали ее для отдыха, накрыли танк брезентом. Один в танке у орудия дежурит, а остальные отдыхают. До переднего края было километра три. Завтрак нам привозили в 12 часов ночи. Ужин, обед и положенные 100 грамм — в 4 часа утра. Как-то раз мы ужинали внизу, когда по нам сыграл «ванюша». В танк не попал, но страху мы натерпелись. На правом фланге, я помню, шла батарея самоходных установок СУ-100. Они выдвинулись вперед примерно на километр, встав на окраину населенного пункта. Только рассвет начался, загорелся один факел, второй, третий, четвертый, пятый, шестой — все самоходки немцы уничтожили. Вскоре мы опять перешли в наступление. Наша авиация обрабатывала передний край — утюжили капитально. Видели, как «Илы» горели и взрывались в воздухе. А когда пошли в наступление, приятно было видеть результаты их работы: «Тигров» со свернутыми набок башнями. Мы наступали в направлении города Шефрон. 14 или 15 марта я подбил самоходку. Она обстреливала соседей, стоя в капонире, не видя, как мой танк зашел ей в тыл, и, когда она попыталась выбраться из капонира, чтобы сменить позицию, мы всадили ей подкалиберным почти в упор. Она тут же вспыхнула! А вскоре наш экипаж раздавил батарею 37-мм орудий. Удачно получилось: мы им с тыла зашли и давай их давить. За эту батарею меня представили к ордену Боевого Красного Знамени, но дали орден Отечественной войны I степени. А потом уже получил орден Красной Звезды. Я уже научился воевать… Всего я подбил один танк, одну самоходку, ну а сколько танкеток и бронетранспортеров — это я не знаю. Пехоты, наверное, человек двести-триста положил. Приехал домой, на книжке у меня было десять тысяч рублей. Отцу говорю: «Пойдем, я деньги получу». Я отдал эти деньги, пошел домой, а отца до полуночи не было. Пришел. Деньги все целы, а сам поддатый. 30 марта 1945 года. Захватили деревушку, а в ней колонну техники: пленных, машины, бронетранспортеры, орудия, только танков не было. Остановились. Загрузили боеприпасами, заправились горючим. Противник отошел километра на три. Все готово к продолжению наступления. Комбат говорит: «Пойдешь в головную заставу». Я вперед посылаю танк и следом за ним иду. Пока из деревни не вышли, я сел на шаровую установку пулемета, справа от механика-водителя, а наводчик и радист устроились на башне, свесив ноги в люки, сзади на трансмиссии расположились человек десять десантников. Первый танк поехал, наш следом за ним, а дорога раскисла, и первый танк оставляет глубокую колею. Механик-водитель, чтобы не увязнуть, берет на полтрака левее. Проехали несколько метров — и вдруг взрыв! Танк подорвался на фугасе. Башня вместе с наводчиком и радистом улетела на двадцать метров (я потом ходил, смотрел). Оба живы остались, но ноги им покалечило. Меня взрывной волной закидывает на крышу дома, с которой я скатился во двор. Упал удачно — ничего не сломал. Я ворота распахиваю, выскакиваю на улицу. Танк горит, снаряды и патроны рвутся. Смотрю — впереди, метрах в четырех от танка, лежит парторг батальона. Его облило горючим, и он весь в огне. Я на него бросился, затушил, оттащил за ворота. В экипаже погибли механик-водитель и заряжающий, которые были в танке. А десант почти весь погиб. Один я легко отделался — только барабанные перепонки лопнули. Неделю я походил в резерве батальона, а когда я немного выздоровел, комбат взял меня к себе на должность начальника штаба, поскольку начальник и помощник начальника штаба были ранены.  Как-то мы брали населенный пункт. Стоял он очень неудачно — в лощине, между двух холмов. Немцы укрепились на склонах. Первые пять танков пошли по дороге к его восточной окраине. Только подошли к домам — тяп, тяп, тяп — пять танков сгорело. Посылают еще три танка — сгорели. А нам надо пройти эту деревню и идти дальше. Больше танков не посылали, в обход, по горам, нашли какую-то дорожку и с тыла вошли в эту деревеньку. Сбили немцев с одного холма, закрепились, с другого склона немцы еще ведут огонь. Танк комбата за домом стоит, а я в соседнем сижу с радистом батальона и о чем-то с ним разговариваю. Вдруг болванка влетает в окно и сшибает ему черепушку. Мозги наружу, глазами хлопает. Я встречался, конечно, со смертью, но тут мне страшно стало. Рацию бросил. Выбегаю на крыльцо и бегу к комбату. Между домами метров, наверное, тридцать было, и это пространство немец простреливал из пулемета. Метров десять пробежал. Он как впереди меня очередь даст. Я остановился. Он только закончил стрелять, я опять побежал — очередь сзади. К комбату подбежал, все рассказал. Как-то мы выкрутились потом. Самый страшный момент? Был такой… Мой экипаж стал экипажем командира роты. В одном бою мы вяло перестреливались с немецкими танками. Перед нами, в траншеях, расположилась пехота. Ротный сел на место командира, а мне разрешил прилечь рядом с танком поспать. Вдруг из траншеи вылезает пьяный пехотный капитан с пистолетом и идет вдоль траншеи, а тут пулеметная стрельба идет, кричит: «Я вас всех перестреляю!» И подходит к нашему танку. А я сплю. Вдруг кто-то как ногой врежет: «Я тебя сейчас, сволочь, расстреляю!» — «Ты что это?!» — «Ты что здесь лежишь, иди в бой!» Я онемел. Ведь сейчас нажмет курок, и все! Хорошо, что наводчик, здоровый парень, услышал крик этого капитана, вылез и прямо с башни на него прыгнул. Пистолет у него отобрал. Как по морде врежет! Тот немножко очухался, встал, повернулся и без звука пошел к себе в траншею. Вот здесь было действительно страшно — если бы не наводчик, погиб бы не за понюх табака. В мае 1945 года мы оставшиеся танки передали в другой батальон. Бригада воевала аж до 8-го числа, а мы стояли в резерве. 7-го командир батальона уехал. Я хоть и младший лейтенант, но остался за начальника штаба: «Ты тут организуй праздник. Говорят, что война кончается». Мы стояли в барском дворе — все есть: скот, вино. Комбат приезжает 8-го числа в 12 часов ночи, говорит: «Ребята, война закончилась». Что началось, это невозможно описать — стреляли из автоматов, пистолетов, из ракетниц. Потом все за стол. Народ от радости пьет. День пьет, второй, третий. Командиры чувствуют, что надо заняться чем-нибудь. И начали технику приводить в порядок. БРЮХОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
 Я родился на Урале, в городе Оса Пермской области, в 1924 году. В 1941 году заканчивал десятилетку. Больше всего в школе я любил занятия по военной и физической подготовке. Хотя рост у меня в то время был всего сто шестьдесят два сантиметра при весе пятьдесят два килограмма, я считался отличным спортсменом: имел первый разряд по лыжам и всегда был правой рукой у преподавателей по этим дисциплинам. Я любил военное дело и хотел после окончания школы поступать в военно-морское училище. У них такая форма! Ну, мы знали, что война будет. Где-то в феврале-марте, когда начался призыв запасников на доукомплектование частей, из нашей школы ушло много молодых преподавателей… А немецкий язык мы не изучали, дураки! Когда преподаватель начинал говорить, что вот, мол, война будет, вы схватитесь, мы бравировали: «Ничего, война будет, мы с немцами будем разговаривать на языке пушек и пулеметов. Другого разговора у нас с ними не будет». К концу войны, когда я уже командовал танковой ротой, а потом и батальоном, бывало, пленных берешь, а допросить не можешь, поскольку по-немецки только и можешь сказать «хенде-хох» и «вег». Тут-то хватились, конечно… 20 июня был выпускной вечер, а 21-го, вечером, мы собрались классом и поехали на пикник за город. Каждый взял у кого что было — картошку, колбасу, сало. Тогда водку не пили, девок не тискали, а только прижимались — ночью дотронешься, а у тебя по телу электрический заряд проходит. В воскресенье к обеду, возвращаясь в город, услышали сильный плач. Думаем: «Кого бьют, что ли?» Навстречу нам бегут пацаны, вроде как на лошади скачут: одна палка между ног, вторая в руке, как всадники с саблей, и орут: «Война! Война!» А сами рубают противника. Мы бегом домой. И уже минут через сорок все мои одноклассники были в военкомате. Я так боялся, что не успею повоевать! Мы-то думали, что война будет месяц, два-три, не больше. Военкомат был похож на муравейник. Беспрерывно отправлялись партии призывников, и уже к сентябрю город опустел. Все мужчины до сорока лет ушли. Остались женщины, старики и мы, молодежь до семнадцати лет, не подлежащая призыву. Надо сказать, что в глубинке особо не чувствовалось трагедии отступления сорок первого года. Все же мы были далеко от фронта. Не было ощущения приближения немцев, но, конечно, стали понимать, что враг силен, что война затягивается. Я все лето обивал пороги военкомата. И только 15 сентября меня, как чемпиона по лыжам района и области среди юношей, направили в формирующийся 1-й отдельный истребительный лыжный батальон. Там нас месяц готовили. А что меня готовить? Я сам мог быть инструктором. Так что я больше помогал командирам, которые сами были не сильны в лыжах. В ноябре нас погрузили и направили под Калинин. Прямо на станции, где разгружался наш эшелон, мы попали под бомбежку, после которой я очутился в госпитале с ранением в плечо и контузией. Как я потом узнал, из трехсот шестидесяти шести человек списочного состава батальона в живых осталось чуть больше сорока… После госпиталя меня послали в Пермь, в авиационно-техническое училище. Я на дыбы — не хочу быть техником, хочу быть командиром! Помучились, помучились со мной и летом 1942 года направили в Сталинградское танковое училище. Когда немцы подошли к городу, тех курсантов, кто поучился хотя бы три месяца, отправили на фронт, а нас, вновь прибывших, в эвакуацию в Курган. Наш эшелон уходил из Сталинграда последним в начале сентября под страшной бомбежкой. В Кургане мы развернули училище, и началось собственно обучение. Изучали танки Т-37, Т-28, Т-26, БТ-7, БТ-5 и Т-34. Надо сказать, учебная база была очень слабой. Я после войны посмотрел немецкий учебный комплекс в Австрии. Конечно, он был намного лучше. Например, у нас мишени для стрельбы из орудий были неподвижные, мишени для стрельбы из пулеметов — появляющиеся. Что значит появляющиеся? В окоп, в котором сидит солдатик, проведен телефон, по которому ему командуют: «Показать! Опустить!» Положено, чтобы мишень появлялась на пять-шесть секунд, а один дольше продержит, другой — меньше. У немцев на полигоне была установлена система блоков, управляемая одним большим колесом, оперирующая и орудийными, и пулеметными мишенями. Колесо крутили руками, причем от скорости вращения этого колеса зависела продолжительность появления мишени. Немецкие танкисты были подготовлены лучше, и с ними в бою встречаться было очень опасно. Ведь я, закончив училище, выпустил три снаряда и пулеметный диск. Разве это подготовка? Учили нас немного вождению на БТ-5. Давали азы — с места трогаться, по прямой водить. Были занятия по тактике, но в основном «пешим по-танковому». И только под конец было показное занятие «танковый взвод в наступлении». Все! Подготовка у нас была очень слабая, хотя, конечно, материальную часть Т-34 мы знали неплохо. В училище занятия шли по двенадцать часов, а кормили ужасно. Мы настолько ослабли, что, экономя силы, даже ходили ужинать по полроты. Полроты идет и приносит еду для другой половины. На ужин давали кусочек хлеба и баланду-болтушку. Заключенных, наверное, так не кормят. Миску нальют, пока курсант свою хлебает, в той, что он должен принести в роту, крупа или мука на дно осядет. Воду он сливает, а гущу переливает в эмалированную кружку. Сверху кладет кусочек хлеба и приносит. Вот ты это съешь. А на другой день ты идешь. Обмундирование было зимнее: шапки, шинели, ботинки с обмотками, но все б/у. И знаешь, несмотря на полуголодное существование, тяжелые сводки с фронта, у меня и моих товарищей не было уныния или каких-либо еще проявлений падения морали. Мы рвались на фронт! Мы знали, что там и питание, и одежда лучше. Мы были романтиками — нам хотелось воевать. Я когда на фронт попал, поначалу все играл в войну, ну а как в разведку боем сходил, только тогда перестал. Я еще об этом расскажу. В училище я проучился четыре месяца. Программа была рассчитана на полугодичное обучение, но нас, двадцать восемь лучших курсантов, выпустили досрочно. Хотя вот вам пример того, как некоторые «рвались на фронт». Нас отобрали двадцать восемь человек, а выпустили только двадцать семь. Один не сдал выпускные экзамены. И кто, ты думаешь?! Инженер по образованию! Тогда мы подумали — не повезло человеку! Наивные! Ему было тридцать три или тридцать четыре года, семья, двое детей, и на фронт ему совершенно не хотелось. По окончании училища, в апреле сорок третьего, мне было присвоено звание лейтенанта, и я сразу был аттестован на должность командира взвода. Нас погрузили в эшелон и отправили в Челябинск, в 6-й запасной танковый полк для получения танков. Наши танки еще не были готовы, а поскольку рабочих не хватало, то я со своим приятелем пошел работать на завод. Там, быстро освоив полуавтоматический токарный станок, я еще две недели работал на расточке блоков цилиндров. Работали бесплатно, фактически за талон на обед. Когда завод выпустил двадцать-тридцать танков, появилась возможность сформировать эшелон. К этому времени экипажи уже были собраны. Мы получили танк, совершили пятидесятикилометровый марш на полигон, отстреляли по три снаряда и пулеметный диск, после чего считалось, что танк готов к отправке на фронт. Вернулись на завод, помыли танки и там же на заводе под звуки заводского оркестра погрузились в эшелон. В июне 1943 года мы прибыли под Курск и влились в состав 2-го танкового корпуса, который в то время стоял во втором эшелоне обороны. Буквально через несколько дней после нашего прибытия в часть началась Курская битва. Здесь я принял первый бой, но, поскольку он был не наступательный, а оборонительный, он мне не запомнился, слившись воедино с последовавшими за ним шестидневными оборонительными боями. Где-то мы отбивались, отходили, потом вместе с пехотой контратаковали. Сейчас некоторые так здорово рассказывают и вспоминают названия населенных пунктов, где они воевали, что диву даешься. Откуда я помню эти населенные пункты?! Сейчас, когда уже несколько раз рассказывал об этих боях, побывал там, только тогда вспомнил: Маячки, совхоз Ворошилова. А в войну как я мог их запомнить? Куда-то движешься, стреляешь, крутишься. Если ты командир танка Т-34-76, ты сам стреляешь, сам по радио командуешь, все делаешь сам. И когда ударит болванка, только тогда понимаешь, что в тебя попали. Было ли страшно? В танке мне было не страшно. Конечно, когда получаешь задачу, есть внутреннее напряжение. Знаешь, что пойдешь в атаку и можешь погибнуть. Эта мысль свербит в голове, от нее никуда не уйдешь. В танк заскочишь, боевое место займешь, тут еще волнение есть, а когда пошел в бой, начинаешь забывать. Увлекаешься боем — пошел, стрельба идет. Когда экипаж натренирован, стрельба быстро идет. Поймал цель — «короткая», один выстрел, второй, пушку бросаешь справа налево, крутишься, кричишь: «Бронебойным! Осколочным!» Мотор ревет — разрывов снарядов практически не слышно, а когда начинаешь вести стрельбу, то вообще перестаешь слышать, что снаружи творится. Только когда болванка попадет или осколочный снаряд на броню шлепнется, тогда вспоминаешь, что по тебе тоже стреляют. Кроме того, при стрельбе в башне скапливаются пороховые газы. Зимой вентиляторы успевают их выбросить, а летом, в жаркую погоду — нет. Бывало, заряжающему кричишь: «Осколочным заряжай!» Он должен крикнуть в ответ: «Есть осколочным!» Толкнул его: «Осколочным готово!» А тут не отвечает. Смотришь, а он лежит на боеукладке — угорел, наглотавшись этих газов, и потерял сознание. Когда тяжелый бой, редкий заряжающий выдерживал до его конца. Он же больше движется, да и 85-мм снаряд два пуда весит, так что нагрузка очень большая. Радист-пулеметчик, командир, механик — они никогда не теряли сознание. Так что в танке у меня страха вообще не было. Когда подобьют, выскочишь из горящего танка, тут немножко страшно. А в танке некогда бояться — ты занят делом. В Прохоровском сражении наш корпус сначала был во втором эшелоне, обеспечивая ввод других корпусов, а потом пошел вперед. Там между танками не больше ста метров было — только ерзать можно было, никакого маневра. Это была не война — избиение танков. Ползли, стреляли. Все горело. Над полем боя стоял непередаваемый смрад. Все было закрыто дымом, пылью, огнем так, что, казалось, наступили сумерки. Авиация всех бомбила. Танки горели, машины горели, связь не работала. Вся проводка намоталась на гусеницы. Радийная связь заблокирована. Что такое связь? Я работаю на передачу, вдруг меня убивают — волна забита. Надо переходить на запасную волну, а когда кто догадается? В восемь утра мы пошли в атаку и тут же схлестнулись с немцами. Примерно через час мой танк подбили. Откуда-то прилетел снаряд и попал в борт, отбил ленивец и первый каток. Танк остановился, слега развернувшись. Мы сразу выскочили и давай в воронку отползать. Тут уж не до ремонта. Это Прохоровка! Там если танк остановился — выскакивай. Если тебя сейчас не убили, то следующий танк подойдет и добьет. В упор расстреливали. Я пересел на другой танк. Его тоже вскоре сожгли. Снаряд попал в моторное отделение. Танк загорелся, и мы все выскочили. В воронку залезли и сидели, отстреливались. Ну, пока в танке воевал, я тоже дурака не валял — первым снарядом накрыл 75-мм пушку, которую расчет выкатывал на огневую, и сжег танк Т-III. Бой продолжался где-то до семи часов вечера, у нас были большие потери. В бригаде из шестидесяти пяти танков осталось около двадцати пяти, но по первому дню у меня создалось впечатление, что потери с обеих сторон были одинаковые. Самое главное, что у них остались еще резервы, а у нас их не было. Вечером 12-го поступил приказ перейти к обороне, и еще три дня мы отбивали контратаки. Сначала у меня танка не было. Я находился в офицерском резерве бригады. А потом опять дали. Безлошадные командиры взводов, командиры танков в резерве сидят. Потребовался командир — идешь принимать танк. А командир роты или батальона воюет до последнего танка своего соединения. Вот ты спрашиваешь, было ли страшно садиться в следующий танк, после того как подбили. Мол, сбитые летчики, бывало, начинали трусить и старались не попасть на фронт. Пусть авиаторы не трещат. Они были в привилегированном положении — это не мы, танкисты, и не пехота. Там ты отлетал — тебе в столовой официантка обед подаст, в доме постель с простынями постелена, техник подготовит самолет к следующему вылету. А мы простыни в глаза не видели, все время в землянке или просто под танком, на холоде. И танк мы сами обслуживали — заправляли, боеприпасы загружали, ремонтировали. Я, когда командиром батальона стал, все равно работал вместе с членами своего экипажа. А что такое заправить танк? Заправщиков-то у нас до конца войны не было! Бочки с горючим на машине привезут, скатят поближе к танку, и весь экипаж в два ведра начинает его заливать в баки. Двое наливают, третий на крыло подает, четвертый заливает. Все участвуют. Ну, когда я ротным был, считал зазорным подавать ведра, так что я их заливал. Вот так пятьдесят ведер по десять литров! Еще надо масла залить ведро, а то и два. Или боеприпасы загрузить. Ящики сгрузили. Сначала снаряды надо от смазки отмыть. Ну, это обычно стрелок-радист делал. Отмыли. Поднимаешь снаряд, другой на крыле берет, в башню третий, а четвертый, заряжающий, тот уже сам укладывает. Зимой ты в грязи, замасленный, все тело в фурункулах — простываешь же. Окоп выкопал, танком наехал, брезентом застелил и печурку к днищу подвесил, выведя трубу наружу, — вот и весь ночлег. Пока натопишь — жаришься, поскольку ты в полушубке, в телогрейке, в ватных брюках. Ложишься спать, оставляя одного дежурить у печки. Все засыпают, и он засыпает, тепло из-под брезента выдует, и медленно все начинают замерзать, первый, кто просыпается, начинает орать на того, кто дежурит. Потом опять натопили, опять тепло. Когда дежурный не засыпал, подтапливал, то ничего, спать можно.  Кормили раз в день — вечером привезут и завтрак, и обед, и ужин. Сало всегда было — шпик давали американский. Осенью картошку нароешь, на сале пожаришь — вкуснотища. Я и сейчас с удовольствием ем это мое любимое фронтовое блюдо. Водка всегда была. Пока ее привезут, половины личного состава уже нет. Правда, я, когда на фронт попал, не пил совсем. Принесут две пол-литры на четверых, я свою порцию экипажу отдавал. Водку стал пить только под конец войны, когда стал командиром батальона. Когда шли по чужой территории, трофеев было очень много. В основном брали компот и вино. Вшей — море. Зимой танк превращается в настоящий морозильник, поэтому одежды на нас было очень много. Ее снимешь, потрясешь над костром — только треск стоит. А как только передышка, сразу все белье на прожарку. Прожарки устраивали следующим образом: выбивали дно из бочки, вставляли металлическую крестовину, на которую развешивали белье. Бочку переворачивали, на дно плескали немного воды, выбитую крышку возвращали на место и всю конструкцию ставили на костер. Главное — следить, чтобы одежда краев бочки не касалась, а то сгорит… Это только молодые могли выдержать. Я говорю, войну выиграла молодежь. После Прохоровки нас передали в 1-й танковый корпус под командованием генерала Будкова и перебросили на Центральный фронт, где мы должны были наступать на Орел. Там я сходил в разведку боем, после которой, собственно, и перестал играть в войну. Дело было так. Приехал командир бригады. Построили нас. Он вышел и говорит: «Желающие пойти в разведку боем, шаг вперед». Я, не задумываясь, шагнул. И тут в первый и последний раз в жизни я каким-то шестым чувством, спиной ощутил полный ненависти взгляд экипажа. Внутри все сжалось, но обратного пути уже не было. По лесу проехали до рощи, что была на высотке, к КНП командира стрелкового полка, безуспешно атаковавшего немецкую оборону. Чуть ниже расположилась наша пехота, а в километре от нее оборона противника на окраине какого-то населенного пункта. Наша 159-я танковая бригада 1 — го танкового корпуса должна была прорывать эту оборону, но сперва надо было выявить немецкие огневые точки. Вывели три моих танка, дали в сопровождение роту пехоты, которая окопалась чуть-чуть впереди, развернувшись в линию повзводно. Указали направление движения и поставили задачу — на максимальной скорости врезаться в оборону противника и вскрыть его систему огня. Снаряды не жалеть. Мы рванули. Пехота сначала ходко шла, а потом залегла под огнем. Я лечу. Смотрю, мои танки слева и справа начали отставать, танк справа загорелся. Я вырвался вперед. Огонь весь сосредоточен по мне. Вдруг удар — искры, пламя и светло стало. Я подумал, что это люк заряжающего открылся. Кричу: «Акульшин, закрой люк». — «Нет люка, сорвало». Надо же было болванке попасть в проушину и сорвать люк. До противника оставалось метров двести, когда немцы засадили болванку прямо в лоб танка. Танк остановился, но не загорелся. После боя я увидел, что болванка пробила броню возле стрелка-радиста, убив его осколками, ушла под люк механика, вырвав его. Меня оглушило, и я упал на боеукладку. В это время второй снаряд пробивает башню и убивает заряжающего. Счастье, что я упал контуженый, а то и меня бы. Мы вместе погибли бы. Очнувшись, я увидел механика, лежащего перед танком с разбитой головой. Я так и не знаю, то ли он пытался выбраться и был убит миной, то ли был смертельно ранен в танке и как-то сумел выбраться. В кресле сидит убитый стрелок-радист, на боеукладке лежит заряжающий. Осмотрелся — кулиса сорвана и завалена осколками. Немцы уже не стреляют, видимо, решив, что танк уничтожен. Посмотрел вокруг — оба моих танка горят неподалеку. Я завел танк, забил заднюю передачу и начал двигаться — опять по мне стали стрелять, и я прекратил движение. Вскоре наша артиллерия открыла огонь, а затем в атаку пошли танки и пехота, которые выбили противника. Когда вокруг стало тихо и я вылез из танка, ко мне подошел заряжающий Леоненко с танка моего взвода — нас из взвода двое живых осталось. Он матом на меня: «Вот что, лейтенант, больше я с тобой воевать не буду! Пошел ты с твоими танками! Я тебя об одном прошу, скажи, что я пропал без вести. У меня есть водительские права. Я сейчас уйду в другую часть шофером». — «Хорошо». Когда пришли и начали искать, я так и сказал: «Танк сгорел. Жив он или мертв, я не знаю». Вот после этого боя я по-настоящему стал воевать. Правда, перед тем я где-то дней двенадцать побыл в медсанвзводе, поскольку меня контузило, шла носом кровь. А дальше опять бои… Ну, чего рассказывать-то?! Бои как бои. Сегодня удачный, завтра нет. Отошли, остановились, окопались. Командир бригады крутится, вертится, подгоняет новые танки, с одного направления на другое перебрасывает. Опять пошли. Опять тебя подбили. Опять в резерв пошел. Потом опять садишься на танк. И вот так по кругу, пока в медсанбат не попадешь или не сгоришь. Кстати, один раз я действительно чуть не сгорел. Танк загорается когда? Когда снаряд попадает в бак с горючим. И горит он тогда, когда горючего много. А уже под конец боев, когда в баках горючего нет, танк почти не горит. Так вот, когда загорелся танк и его охватило пламя, тут не потерять самообладания — это, брат, нужно иметь большое мужество. Температура сразу дикая, солярка горит, а если огонь тебя лизнул, ты уже полностью теряешь контроль над собой. Механику почему тяжело выскочить? Ему надо крюки снимать, откручивать, открывать люк, а если он запаниковал или его огонь схватил, то уже все — никогда он не выскочит. Больше всего, конечно, гибли радисты. Они в самом невыгодном положении — слева механик, сзади заряжающий. Пока один из них дорогу не освободит, он вылезти не может, но счет-то на секунды идет. Так что выскакивает командир, выскакивает заряжающий, а остальным — как повезет. Выскочил — и кубарем катишься с танка. Я сейчас задумываюсь: «А как же так получается, что, когда ты выскакиваешь, ничего не соображаешь, вываливаешься из башни на крыло, с крыла на землю (а это все-таки полтора метра), никогда я не видел, чтобы кто-то руку или ногу сломал, чтобы ссадинки были?!» Так вот где-то между Орлом и Брянском мой танк подбили, и он вспыхнул. Я крикнул: «Выпрыгиваем!» и с первым же огнем начал выскакивать. Однако фишка ТПУ была плотно вставлена в колодку, и, когда я оттолкнулся и полетел вверх, штекер не открылся, и меня рвануло вниз, на сиденье. Заряжающий выскочил через мой люк, а я уже за ним. Спас танкошлем — он плохо горит, поэтому обгорели только лицо и руки, но так, что все волдырями покрылось. Отправили меня в медсанбат, ожоги смазали мазью, а на руки надели проволочные каркасы, чтобы кожу не царапать. В дальнейшем, когда прибывали новые экипажи, я заставлял всех разъемную колодку подчищать, чтобы она свободно отключалась. Тяжелый бой был за станцию Брянск — товарная. Лил дождь. Мы форсировали какую-то речушку и ворвались на станцию, на которой стояли эшелоны. Шел кромешный ночной бой. Правда, немцы разбежались, но тут мы их здорово покромсали. Захватили эту станцию, расстреляли эшелоны и стали двигаться по улицам, добивая отступающего противникам. А после Брянска боев почти не было — мы вошли в преследование. Немцы, уходя, сгоняли все молодое население и гнали толпой. Когда мы их догоняли, охрана, видя танки, разбегалась в разные стороны, мы, кого успевали, из пулеметов расстреливали и освобождали наших людей. Каждый раз мы останавливались — жалко их было. Они бросались на нас со слезами, плачем, радостью. В Новозыбково, освободив одну такую группу людей, мы ночь простояли лагерем, приводя технику в порядок. Жгли костры, варили поспевшую к тому времени картошку. Угощали они нас откуда-то добытым самогоном. Познакомился я с одной молодухой, которой было года тридцать два, с двумя детьми. До сего времени помню имя и фамилию — Мария Баринова. А вот где эта деревня, забыл. Все мне адрес оставляла: «У меня муж погиб. Приезжай после войны, поженимся». А мне тогда было девятнадцать. Я в танкошлеме, в комбинезоне, весь чумазый, тоже выглядел, наверное, лет на тридцать. Часто ли мы вели ночные бои? Да, часто. Мы на время суток не смотрели. У нас приказ — не прекращать наступление. Немцы не любили ночные бои, они их вели реже, но тоже, случалось, атаковали нас. Ночью воевать тяжело. Такое впечатление, что все пули и снаряды предназначены тебе. Ты видишь, трассер летит в стороне, метров за двадцать-тридцать, а все кажется, в тебя. И ориентироваться тяжело — часто блудили. Некоторые, пользуясь темнотой, маневрировали, прижимались, вперед не шли. А потом поди докажи?! Вот под городом Тэта, в Венгрии, был такой случай. Это было вечером, 29 декабря 1944 года, уже смеркалось. Бригада, в которой оставалось не больше сорока танков, развернулась, чтобы атаковать город. По открытому месту надо было пройти метров восемьсот, тысячу максимум. Но, как только немцы открыли огонь, все батальоны поотставали. Моя-то рота вперед ушла. После боя стали разбираться, так у всех нашлась причина. У одного радиостанция не работает — предохранитель перегорел. У другого — волна сбилась, не слышит. У третьего — кулиса заела, механик не мог переключить. Ну, а мы, когда вперед вырвались — весь огонь сосредоточился на нас. Маневрировали, ускользали от попаданий. Тут от механика очень много зависит. Если механик опытный — это спасение для экипажа. Он сам тебе условия создаст для выстрела, выберет площадку, спрячется за укрытие. Некоторые механики даже так говорили: «Я никогда не погибну. Потому что я поставлю танк так, чтобы снаряд ударил не там, где я сижу». Я им верю.  Были ли случаи трусости? Конечно, бывали. Такого, чтобы танк идет в атаку, а экипаж выпрыгивает, не было, но бывало, что мина или осколочно-фугасный снаряд попадает в танк, разворотит что-то, и экипаж выскакивает. У нас был такой случай. Мина ударила в лоб, экипаж выскочил и бежать. А немцы перешли в контратаку, танк остался на нейтральной полосе. Командир батальона, Мухин, взял с собой механика-водителя, тихонько ночью туда пробрались, завели и вывели танк. Командир бригады, надо отдать ему должное, молодец, экипаж суду не придал, только пригрозил, чтобы такого больше не было. Они опять сели в танк. Был еще такой случай. Выдвигались мы ночью на исходные позиции, чтобы с рассветом наступать. Один командир останавливает машину в стороне, якобы ему не понравилось, как двигатель работает, и приказывает ждать зампотеха. Идет танк, он его останавливает: «Зампотеха нет?» — «Нет.» — «А чего стоишь?» — «Да что-то двигатель плохо работает». — «Да? У тебя стартер работает?» — «Работает». — «Дай мне его». — «Бери». Снимают исправный стартер, а себе ставят неработающий. Едет следующий танк: «Что у тебя?» — «Стартер не работает». — «А аккумуляторы хорошие?» Вот так он за ночь свой танк на запчасти и раздал, а когда зампотех приехал, то, конечно, танк был неисправен, и его пришлось ремонтировать. Экипаж промолчал, но кто-то доложил в особый отдел. Хотели его судить, но после утреннего боя танков погорело много, и остатки батальона передали в другую часть. Так его в другой танк пересадили и отправили, судить не стали — пожалели. В конце 1943 года наш корпус перебросили на 2-й Прибалтийский фронт. Там провоевали ноябрь и декабрь. Было очень тяжко. Почему? Болота. Чуть в сторону свернул — застрял, да так, что вытащить невозможно. Действовали только вдоль дорог, а на них немцы устраивали засады. В атаку шли на узком участке фронта, действуя поротно и повзводно. За два месяца боев ни разу я не видел, чтобы даже батальон развернулся для атаки, не говоря уже о бригаде. В боях с этими засадами очень много людей погибло. Ведь как получается: один танк на дороге подбили. Его обошли — второй подбили. И так пока твоя очередь не наступит. Кто посчастливее, половчее, поразумнее — те проскочат. В районе Невеля нас загнали в болото, или мы сами попали, я потом так и не понял. Оставалось в батальоне семь танков. Мы по дорожке прошли и вышли на поляну, а дальше, куда ни сунемся — везде топь. А дорожку, по которой мы проскочили, немцы перекрыли. Мы заняли оборону в центре поляны и ночь отстреливались от немцев. Я тогда уже ротой командовал.  В этом бою погибли командир взвода, командир роты, а командир батальона капитан Кожанов и еще один командир роты сбежали. Правда, к утру, видимо, очухались и оба, втихаря, вернулись. А я уже принял командование остатками батальона, решил организовать прорыв из этой ловушки назад, выйти тем же путем, что и пришли. Тут появляется наш комбат, весь мокрый и орет: «Вперед! Братья кровь проливают, а вы тут сидите!» Оттуда вырвалось только четыре танка. И надо же так получиться, что мы наскочили на командный пункт командира стрелковой дивизии; с которой взаимодействовала наша бригада. Полки дивизии правее этой «ловушки» безуспешно штурмовали населенный пункт Васильки в Новгородской области, западнее станции Пустошко, располагавшийся на высотках. Там немцы хорошо укрепились: противотанковая артиллерия, танки. Я думаю, что мы пытались эти Васильки обойти, ну и залезли в болото. Командир дивизии нас задержал и приказал поддержать его пехоту. Я говорю: «Товарищ полковник, горючего и снарядов нет, мы сутки не ели». — «Сейчас все будет». Накормили. Боеприпасы и горючее подвезли. Комбат сказал: «У меня танк неисправный. Ты, командир роты, бери три танка и вперед». Экипажи на танки набрали — много было раненых. Вышли вперед на рекогносцировку. Я сразу сказал: «Товарищ полковник, у вас танки горят». Видно было на снегу перед деревней чадящие черным дымом костры. «У вас танки горят. Что мы сделаем тремя танками? Ведь погибнем ни за что!» — «Молчать, расстреляю! Выполнять приказ!» Повел я взвод в атаку. Пехоту, лежавшую внизу, в лощине перед деревней, под шквальным огнем, мы прошли, ворвались на окраину деревни, и здесь нас один за другим сожгли. Мне сперва в борт засадили, потом в ходовую часть. Танк загорелся, я выскочил, видимо, остальные не успели. Вот и все. Весь экипаж погиб. Меня пехота огнем прикрыла, и я отполз к своим. В живых остался я и механик-водитель с другой машины. Вернулись на исходные, а тут еще танки подошли, и я вызвался их повести десантом на танке. Это был первый и последний раз, когда я воевал как десантник. После этого боя я зарекся. Когда вырвались на передний край, всех, кто был на танке, как ветром сдуло, я один как уж вертелся за башней. Мне казалось, что все пули летят в меня — свист, скрежет рикошетирующих о броню пуль и осколков. Это ужас! Как я уцелел — не знаю… Деревню мы взяли, пошли, трофеев набрали. Вышли из боя, тут уже за нами из бригады машину прислали. Потом нас перебросили обратно на Украину, в 170-ю бригаду. В ней я воевал до конца войны. Когда мы прибыли, Корсунь-Шевченковская операция уже завершилась, но продолжались бои с Кировоградской группировкой немцев. Там, возле населенного пункта Плавни, соседний батальон капитана Родина за один день потерял почти все танки: первая рота подорвалась на минных полях и застряла в речушке, а вторая рота начала ее обходить, ввязалась в бой и тоже все танки потеряла: из двадцати одного танка осталось пять. А 8 января 1944 года он и сам погиб. К этому времени в его батальоне осталось четыре танка, и этими силами они штурмовали населенный пункт (не помню его названия), который находился километрах в десяти северо-восточнее Кировограда. Взять они его не сумели. Подъехали командир и начальник политотдела бригады подполковник Негруль Георгий Иванович. Командир бригады, подполковник Чунихин Николай Петрович, спокойно сказал, что надо взять эту деревню и замкнуть кольцо окружения, а Георгий Иванович набросился: «Ты такой-сякой! Какой-то зачуханный населенный пункт взять не можешь! Трус!» Родин был волевой, талантливый командир, всегда спокойный, тут взорвался: «Я трус?! Возьму!» Командир бригады его остановил: «Не надо горячиться. Ты осмотрись». Но тот уже закусил удила. Собрал оставшихся офицеров: «Перевозчиков справа, я в центре, Аракчеев слева. Или возьмем, или все умрем. Чащегоров (он мне этот эпизод рассказывал), езжай в штаб бригады, доложи, что взяли деревню. Если я погибну, то чтобы на моей могиле ни один политработник никаких речей не произносил». Все, кроме одного танка, погибли. Летом 1944 года, перед Яссо-Кишиневской операцией, нас отвели на отдых и переформирование, а 20 августа началось наступление. Артиллерия так обработала первую полосу, что мы еле продвигались — все было изрыто воронками. Так что примерно пятнадцать километров первой полосы обороны сопротивления со стороны немцев вообще не было. Только подойдя ко второй полосе в районе реки Валуйслуй, мы встретили организованное сопротивление. Пехота и танки НПП нам обеспечили ввод, и мы в конце первого дня вошли в прорыв. Сплошного фронта уже не было, только очаговое сопротивление. Как вели бои? Подходим к селу, разведка докладывает, что в нем немцы, есть артиллерия и танки. Подтягиваем приданный бригаде артиллерийский полк. Бригада развертывается. В зависимости от задачи и рельефа местности развертывались в линию один или два батальона. Остальные — в резерве. Начинаем атаковать. В центре противник больше сопротивляется, мы охватываем его с флангов. По фронту остаются смежные роты первого и второго батальонов, которые огнем сковывают противника, а две роты обходят с флангов. Сбили противника и пошли дальше. Бой надо видеть, описать его очень сложно. Где командир находится? В бою все, до командира роты включительно, идут вместе с линейными танками. Командир батальона уже идет с резервом и рулит всем батальоном. Он видит, кто отстал, кто нет. Как только немцы начинают упорно сопротивляться, а еще и подожгут один-два танка, остальные начинают сбавлять скорость — жить всем хочется! Вот-вот остановятся… Тут же по рации командир батальона: «Брюхов, а ну-ка увеличить скорость!» Вроде в роту передал, а те все равно еле ползут. Приходится вырываться, вести за собой. Я как-то подсчитал, что у нас в батальоне за всю войну в одной и той же роте погибло восемнадцать ротных командиров. Я только убитых подсчитал, а не раненых. Примерно столько же командиров батальона. Потому что ротный командир воюет до последнего танка в роте, командир батальона — пока два-три танка не останется. Выскочил из одного, попадешь в другой. А там либо ранен, либо убит. Конечно, опытные танкисты выживали дольше. Приведу тебе простой пример. Пришла на пополнение рота — десять танков. У нас в резерве батальона есть четыре командира танков, которые уже участвовали в боях. Из десяти прибывших с танками командиров четверых наиболее слабых снимаем и отправляем обратно на завод за танками или в резерв батальона. 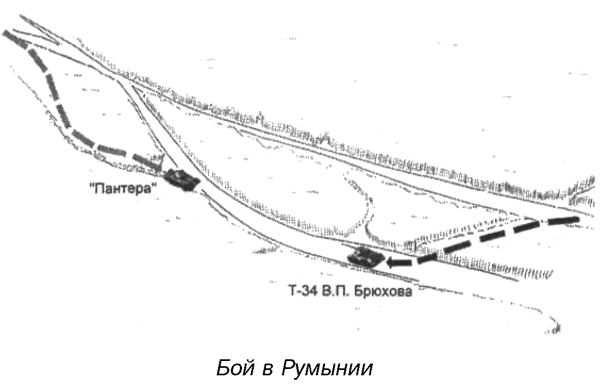 Они не сопротивляются — особенно никто в бой не рвался. Вместо них сажаем командиров танков из резерва. Также и механиков-водителей и остальных членов экипажа можно заменить. Так вот, после недели или двух боев из шести молодых, дай бог, один-два в живых останутся, а из «старичков», может, один только погибнет. Опытные погибают на одну треть меньше, чем неопытные. Опыт — большое дело! Сходил в два-три боя — это ты уже училище закончил. Даже один бой научит больше, чем училище. Если ты выжил в бою, значит, смог сконцентрировать волю, знания, наблюдательность — все свои способности. Ну, а если ты способный, то и шансов выжить у тебя больше. В Яссо-Кишиневской операции за пятнадцать дней на своем Т-34-85 я лично подбил девять танков. Один бой хорошо запомнился. Куши прошли и выходили на Леово, на соединение с 3-м Украинским фронтом. Мы шли по кукурузе высотой с танк — ничего не видно, но были в ней такие дороги или просеки, как в лесу. Я заметил, что в конце просеки навстречу нам проскочил немецкий танк, потом уже выяснилось, что это была «Пантера». Я командую: «Стоп. Прицел — вправо 30, танк 400». Судя по направлению его движения, встретиться мы должны были на следующей просеке. Наводчик пушку вправо перебросил, и мы продвинулись вперед на следующую просеку. А немец меня тоже засек и, видя направление движения танка, начал скрадывать меня по кукурузе. Я смотрю в панораму в то место, где он должен появиться. И точно — он появляется под ракурсом 3/4! В этот момент нужно сделать выстрел. Если дашь немцу выстрелить и он первым снарядом промахнется — выскакивай, второй гарантированно будет в тебе. Немцы — они такие. Я кричу наводчику: «Танк!», а он не видит. Я гляжу, он уже вылез наполовину. Ждать нельзя. Секунды идут. Тогда я наводчика схватил за шиворот — он же сидит передо мной — и скинул на боеукладку. Сам сел за прицел, подвел и вдарил ему в борт. Танк вспыхнул, из него никто не выпрыгнул. И, конечно, когда танк вспыхнул, в этот момент мой авторитет как командира поднялся на недосягаемую высоту, поскольку если бы не я, то этот танк врезал бы по нам, и весь экипаж погиб. Наводчик Николай Блинов себя чувствовал униженным, так стыдно ему было. Я наколотил много танков в Румынии и Венгрии. Ночи короткие, нетемные. Мы подошли к каналу и стоим. По другой стороне канала проходила дорога, по которой отходила немецкая колонна. На фоне неба я разглядел силуэт и по нему ударил. Один загорелся. Следующий за ним танк наскочил на него и задергался — начал искать, как ему обойти подбитый танк, развернуться, но не успел — вторым снарядом я его уничтожил. Преследование — это легкие бои. В октябре сорок четвертого во главе передового отряда я первым пересек границу Румынии и Венгрии в районе города Баттоня и, захватив переправу через реку Тиса, сутки удерживал ее до подхода основных сил. Бой был очень тяжелый, поскольку немцы старались всеми силами вырваться из мешка. За этот бой я был представлен к званию Героя Советского Союза, однако присвоили мне его только в 1995 году. Я после этой операции первый раз получил деньги за подбитые танки. Поехали в город Тимашара, три дня мы там гуляли с Колей Максимовым. Кубанки заказали, костюмы, сапоги хромовые с модными обрезанными голенищами. За сутки нам все сшили. Но чтобы деньги получить, надо было доказать, что ты подбил, нужно, чтобы были очевидцы. Была специальная комиссия, которая, если не ленилась, ездила, проверяла. Например, самолет сбили, летчики себе припишут, зенитчики себе, пехота себе — все же стреляют. Как-то командир зенитной роты прибегает: «Василий Павлович, вы видели, что самолет сбили?!» — «Видел». — «Это мы сбили. Подпишите, что вы были очевидцем». В итоге выходило, что не один самолет сбили, а три-четыре. Когда закончилась война, у нас было приказано подвести итог боевых действий по всем операциям. Нарисовали карты, командир бригады провел совещание, в завершение которого выступил начальник штаба с докладом о потерях противника и своих. Считать наши потери было очень трудно. Сколько танков погибло, не всегда точно учитывали. А потери противника по нашим донесениям можно было посчитать спокойно. И вот тут начальник штаба говорит: «Если бы я брал все донесения командиров батальонов Брюхова, Саркесяна, Отрощенкова и Московченко, то войну бы мы закончили на полгода раньше, уничтожив всю немецкую армию. Поэтому я все их донесения делил пополам и отправлял в штаб корпуса». Думаю, что штаб корпуса все эти донесения делил пополам и отправлял в армию и так далее. Тогда, может быть, какая-то достоверность в них была. А как мы писали донесения за день: «Наступали там-то и там-то. Прошли столько-то километров, на таком-то фронте. Вышли на такой-то рубеж. Потери противника: столько-то танков (танки мы хорошо учитывали — за них деньги платят), минометы, орудия, личный состав — кто их считал? Никто. Ну, напишешь человек пятьдесят. А когда в обороне сидели. Стреляли и стреляли: «Ну, пиши два орудия и один миномет… » Вообще с немцами тяжело воевать. У меня к ним не было ненависти, просто это был противник, которого надо уничтожать. С пленными я не воевал, не расстреливал, а собирал и отправлял в тыл. Вот, например, был такой случай в Венгрии, под Будапештом, числа 25 или 26 декабря 1944 года. Мой батальон (я с конца 1944 года уже командовал батальоном) оторвался от основных сил бригады километров на двадцать и вышел к Вертеш-Боглару, перерезав дорогу на Будапешт. Остановились в рощице на высотке, а под нами в лощинке примерно в километре небольшой населенный пункт и дорога, по которой шла колонна противника, а в ней я насчитал шестьдесят три танка. Ввязываться со своими пятнадцатью танками в бой было бессмысленно. Я доложил командиру бригады. Тот приказал остановиться и наблюдать, а сам вызвал на них авиацию, которая их раскромсала возле Бичке. А мы остались в этой рощице. Пока стояли, на нас наскочили три немецких связиста, тянувшие провод. Их скрутили. Пытались с ними говорить — никто немецкий язык не знает. В воронку посадили, поставили автоматчика, чтобы не убежали. Потом смотрим, а против движения колонны едет «Опель Адмирал» — машина классная, видать, начальники едут. Они свернули с дороги и, решив срезать или просто заплутав, поехали левее этой рощицы, где мы стояли, по полевой дороге. Я вскакиваю на танк, хватаю автомат и механику кричу: «Давай наперерез!» Он рванул и точно перехватил машину. Я выскакиваю из танка, даю очередь по мотору. Машина остановилась. Офицеры, что в ней сидели, и водитель остолбенели. Я автомат на них наставил и командую: «Вег». Вылезают четыре лоботряса — три офицера и водитель. Я: «Хенде хох!» Они руки подняли. Один вдруг бросился бежать по ходу движения машины. Я за ним, решив, что с остальными наши сами справятся, но те даже не шевельнулись. Вдруг он поворачивается и бежит обратно. Ага, думаю, испугался, засранец. Он подбегает к машине, хватает из нее портфель и бежит в другую сторону, к той колонне, что по дороге прошла. Я за ним. На бегу стреляю в него — не попал. Вторая очередь — тоже мимо. Это только в кино быстро попадают, а в жизни — нет. А тем более на бегу из «ППШ». Третья очередь, и автомат заклинило — утыкание патрона. Я начинаю передергивать затвор. Он понял, что что-то случилось, повернулся, видя, что я колупаюсь с автоматом, достает «парабеллум» и стреляет. Мимо! Теперь уже я от него бегу к машине, а он за мной. Повезло — я еще раз передергиваю затвор, и автомат застрочил. Тогда поворачиваюсь — он еще не остановился и бежит на меня — и даю длинную очередь. Немец как будто на стену наскочил и упал. Подошел поближе, для уверенности еще очередь дал. Забрал у него портфель, часы, «парабеллум». У меня самого было два пистолета на поясе и за пазухой, но почему-то я не догадался ими воспользоваться, когда автомат заклинило. Посмотрел в портфель — там какие-то карты. Еще подумал, что, наверное, это что-то важное, раз немец вернулся к машине их забрать. Подцепили эту машину тросом к танку. Водителя — за руль. Лоботрясов — в машину. Связистов немецких и трех автоматчиков — на танк, и приказал двигаться в штаб бригады. Оказалось, что в портфеле была карта контрудара в районе города Секешфехервар, утвержденная фюрером. Вот как этот эпизод описывается в книге Сергея Матвеевича Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» (М.: Воениздат, 1989):
Так вот убил я этого немца и никакого сожаления не испытывал, остальных шестерых, которые не сопротивлялись, я не тронул, а отправил. Враг есть враг, но никогда я так просто не стрелял. За этот захват меня наградили орденом Суворова. Вызвали меня к командиру корпуса генерал-лейтенанту Говоруненко Петру Даниловичу для награждения. Сидит он и Шелех, начальник политотдела. Командир корпуса, обращаясь к начальнику политотдела, говорит: «Смотри, Шелех, — сопляк, молоко на губах не обсохло, а он уже орден Суворова получил! Я еще такого ордена не имею, а он его получает!» Вместо того чтобы похвалить, порадоваться, он это произнес с таким сожалением и упреком. Возвращаюсь к вопросу об отношении к немцам. Был такой случай зимой 1945 года. В одном из боев мы пленили пятерых немцев. К вечеру закончили бой, остановились отдохнуть. В это время приехали замполит и зампохоз батальона Вася Селиванов, привезли горючее, боеприпасы: «Ну, командир, давай ужинать». Накрыли стол, поставили бутылку вина. Вася говорит: «Я пойду посмотрю, как там людей кормят». — «Ну, иди. Проверь, чтобы все было в порядке». Вскоре он возвращается: «Все нормально. Все накормлены, танки заправлены горючим и боеприпасами». Я говорю: «Там пять человек немцев в яме сидят, забери их». Он мнется. «Что ты замялся?» Я понял, что что-то не то: «Ну, пойдем». А я их посадил в яму и часового поставил. Выясняется. Он пришел: «Кто это такие?» — «Немцы». — «А, фашисты!» И пострелял их. Я как увидел, набросился на него: «Ах ты, сукин сын, что же ты наделал?! Если ты хочешь стрелять, завтра в бой пойдем. Давай садись заряжающим со мной или автоматчиком на танк. Садись и бей, сколько тебе вздумается!» Отчитал его как следует. Замполит пришел. Посидели, порядили: «Надо бы под трибунал тебя отдать за это дело. Ладно, давай бери лопату и зарывай, чтоб здесь ровно было». И он при всем честном народе сам зарывал. В атаку-то он ни разу не ходил. Придет домой после войны, его спросят: «Ты хоть одного немца убил?», и он с гордостью сможет сказать: «В одной атаке убил сразу пять человек». Хозяйственник есть хозяйственник. Я так думаю, что кто в бой ходит, тот пленных не будет стрелять никогда. Может, и бывали такие, но, как правило, среди своих желающих расстреливать я не видел. Был один случай в городе Крайово, в Румынии, где мы остановились на три дня подремонтироваться и подтянуть тылы. У нас в батальоне был командиром танка лейтенант Иванов с Белгородчины. Взрослый мужик, лет тридцати двух — тридцати четырех, коммунист, с высшим агрономическим образованием, бывший до войны председателем колхоза. В его деревне стояли румыны, и при отступлении они молодежь с собой угнали, а коммунистов и их семьи согнали в один сарай и сожгли. Потом соседи говорили, что так они кричали и плакали, когда солдаты обливали сарай горючим, а потом еще стреляли, добивая через доски. Вот так погибла семья Иванова — жена и двое детей. Наша бригада проходила недалеко от его села, и он отпросился заехать. Там ему рассказали эту историю, отвели на пепелище. Когда он вернулся, его словно подменили. Он стал мстить. Воевал здорово, временами даже казалось, что он ищет смерти. В плен не брал никого, а когда в плен пытались сдаваться, косил, не раздумывая. А тут… выпили и пошли с механиком искать молодку. Сентябрь был, хорошая погода, дело к вечеру. Зашли в дом. В комнате пожилой мужчина и молодка лет двадцати пяти сидят пьют чай. У нее на руках полуторагодовалый ребенок. Ребенка лейтенант передал родителям, ей говорит: «Иди в комнату», а механику: «Ты иди, трахни ее, а потом я». Тот пошел, а сам-то пацан, с 1926 года, ни разу, наверное, с девкой связи не имел. Он начал с ней шебуршиться. Она, видя такое дело, в окно выскочила и побежала. А Иванов стук услышал, выскакивает: «Где она?» А она уже бежит. «Ах ты, сукин сын, упустил». Ну, он ей вдогонку дал очередь из автомата. Она упала. Они не обратили внимания и ушли. Если бы она бежала и надо было бы убить ее, наверняка бы не попал. А тут из очереди всего одна пуля, и прямо в сердце. На следующий день приходят ее родители с местными властями к нам в бригаду. А еще через день органы их вычислили и взяли — СМЕРШ работал неплохо. Иванов сразу сознался, что стрелял, но он не понял, что убил. На третий день суд. На поляне построили всю бригаду, привезли бургомистра и отца с матерью. Механик плакал навзрыд. Иванов еще ему говорит: «Слушай, будь мужиком. Тебя все равно не расстреляют, нечего нюни распускать. Пошлют в штрафбат — искупишь кровью». Когда ему дали последнее слово, тот все просил прощения. Так и получилось — дали двадцать пять лет с заменой штрафным батальоном. Лейтенант встал и говорит: «Граждане судьи Военного трибунала, я совершил преступление и прошу мне никакого снисхождения не делать». Вот так просто и твердо. Сел и сидит, травинкой в зубах ковыряется. Объявили приговор: «Расстрелять перед строем. Построить бригаду. Приговор привести в исполнение». Строились мы минут пятнадцать-двадцать. Подвели осужденного к заранее отрытой могиле. Бригадный особист, подполковник, говорит нашему батальонному особисту, стоящему в строю бригады: «Товарищ Морозов, приговор привести в исполнение». Тот не выходит. «Я вам приказываю!» Тот стоит, не выходит. Тогда подполковник подбегает к нему, хватает за руку, вырывает из строя и сквозь зубы матом: «Я тебе приказываю!!» Тот пошел. Подошел к осужденному. Лейтенант Иванов снял пилотку, поклонился, говорит: «Простите меня, братцы». И все. Морозов говорит ему: «Встань на колени». Он это сказал очень тихо, но всем слышно было — стояла жуткая тишина. Встал на колени, пилотку сложил за пояс: «Наклони голову». И когда он наклонил голову, особист выстрелил ему в затылок. Тело лейтенанта упало и бьется в конвульсиях. Так жутко было… Особист повернулся и пошел, из пистолета дымок идет, а он идет, шатается, как пьяный. Полковник кричит: «Контрольный! Контрольный!» Тот ничего не слышит, идет. Тогда он сам подскакивает, раз, раз, еще. Что мне запомнилось, после каждого выстрела, мертвый он уже был, а еще вздрагивал. Он тело ногой толкнул, оно скатилось в могилу: «Закопать». Закопали. «Разойдись!» В течение пятнадцати минут никто не расходился. Мертвая тишина. Воевал он здорово, уважали его, знали, что румыны сожгли его семью. Мог ведь снисхождения просить, говорить, что случайно, нет… После этого никаких эксцессов с местным населением у нас в бригаде не было.  А вот венерических болезней было много. Причем в большинстве случаев заражались от своих. Например, один наш офицер поехал в командировку, где уж он там умудрился подцепить заразу, я не знаю, но по приезде заболел. В сорок пятом году мы занимали оборону под Балатоном. Жили в какой-то халупе. Как-то вечером из бригады пришла красивая связистка Маша Решетова, с которой дружил начальник штаба батальона Саша Чащегоров — рослый, симпатичный парень, с 1923 года. По такому случаю мы ему предоставили штабной автобус, стоявший рядом с домом, где он накрыл столик на двоих. Мы поужинали в домике. Вдруг ближе к вечеру, уже начало смеркаться, появляется заместитель командира бригады майор Новиков. Зашел к нам: «А куда Сашка-то делся?» — «В автобусе». — «А, зайду проведаю». Потом Саша рассказывал. Заходит майор. Я вскочил: «Товарищ майор, садитесь». Тот сел. «Как у тебя тут? Охрану организовал?» — «Так точно. Товарищ майор, может быть, с нами немножечко выпьете?» — «Ну, давай». Выпили. Майор говорит: «Вот что, Саша. Сейчас уже стемнеет, сходи проверь посты, охрану, чтобы было все в порядке. Тебе двух часов хватит?» — «Так точно». И ушел. Прошло два часа, слышим, машина заурчала, и майор с этой связисткой укатили в бригаду. Проходит с неделю — новость: Машку Решетову и майора Новикова отправляют в госпиталь, в Одессу, заболели. Сашка, когда услышал, он аж от радости подпрыгнул, ведь ему бы пришлось ехать. Были ли романы? Конечно! К нам девчонки ходили, им хотелось за нас замуж выйти. Многие женились прямо на фронте. Хотя пишут, что даже хорошие девчонки выбирали офицеров, и желательно постарше. Это естественное явление. А сейчас? То же самое, только сменились приоритеты. Раньше должность и размер звезд играли роль, сейчас деньги. Тогда еще популярностью пользовались ребята, имя которых, как говорится, было на слуху — геройский парень, всегда воюет, награждают его или он Героя получил. Я был еще ротным командиром, когда обо мне начали говорить: Брюхов, Брюхов, Брюхов! В бригаде я редко появлялся — все время был со своими, и меня там не видели, а только слышали фамилию. Как-то раз комбриг говорит: «Зайди ко мне, получишь задачу». Как я потом понял, среди женского персонала штаба поднялся кипеж: «О! Сейчас приедет Брюхов!» Я приехал на танке, в комбинезоне, выскакиваю — шибздик в танкошлеме. Говорят: «Где Брюхов-то»? — «Да вон!»… Вздох разочарования. Многие девчонки уехали беременными. Начиная с командования бригады и выше были распространены ППЖ. Командир бригады жил с врачом из медсанвзвода. Начальник политотдела — со своей учетчицей. Остальные девчонки так: кому-то кто-то понравился, кто-то пристроился, но насилия не было, нет. Вообще у меня отношение к женщинам всегда было самое трогательное. Ведь у меня самого было пять сестер, которых я всегда оберегал. Поэтому я к девчонкам очень внимателен. Ведь девчонки мучились-то как?! Им же труднее было в сотню раз, чем нам, мужикам! Особенно обидно за девчонок-медсестер. Они же на танках ездили, с поля боя раненых вывозили, и, как правило, получали медаль «За боевые заслуги» — одну, вторую, третью. Смеялись, что получила «За половые потуги». Из девчонок редко кто орден Красной Звезды имел. И те, кто ближе к телу командира. А после войны как к ним относились?! Ну, представь — у нас в бригаде тысяча двести человек личного состава. Все мужики. Все молодые. Все подбивают клинья. А на всю бригаду шестнадцать девчонок. Один не понравился, второй не понравился, но кто-то понравился, и она с ним начинает встречаться, а потом и жить. А остальные завидуют: «А, она такая-сякая. ППЖ». Многих хороших девчонок ославили. Вот так. Закончил я войну в Австрии… Какой личный счет? За войну я потерял девять машин и сжег двадцать восемь немецких, правда, деньги дали только за девять, да не в этом суть. КРИВОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
 Перед войной мы жили недалеко от Ташкента. В полдень 22 июня мы услышали по радио сообщение о том, что началась война. Мы, мальчишки, рванули в военкомат, но нам отказали, сказав, что мы не достигли призывного возраста. Так что конец сорок первого и начало сорок второго года я работал на эвакуированном из Москвы самолетостроительном заводе сначала учеником токаря, а потом токарем. Летом 1942 года в возрасте семнадцати с половиной лет меня приняли в Харьковское танковое училище, эвакуированное в Черчик. Сначала я прошел мандатную и медицинскую комиссии. «Хочешь быть танкистом?» — спрашивает медик. «Хочу». — «Здоров». Потом были экзамены, тоже довольно формальные. Некоторые по сорок ошибок в диктанте сделали, но их приняли. Первое время в училище было тяжело. Спали мало: не успел лечь, а уже кричат: «Подъем». Уставали ужасно, но я выдержал. После семи месяцев обучения мне присвоили звание лейтенанта и в составе роты послали в Нижний Тагил за танками. Вот там мы наголодались! В училище-то хорошо кормили, а тут мизерная тыловая норма. Что-то нам удавалось купить на базаре, но все равно было очень трудно. Что меня удивило, так это скорость, с какой собирались танки. За нашим экипажем закрепили бронекоробку, на ней еще катков не было. Посмотрели, как идет сборка, и пошли на обед. Через час возвращаемся — нет нашей коробки! С трудом нашли. Она уже на катках, к ней уже башню краном подводят. Мальчишка внизу под танком бандажи резиновые прикручивает. Каждый день двадцать пять танков ставят на платформу! Собрали наш танк, я, как командир, получил часы, перочинный ножик, шелковый платочек для фильтрации топлива и поехали на фронт. Экипаж у меня был четыре человека. Механик-водитель, Крюков Григорий Иванович, был на десять лет старше. Он перед войной работал шофером и уже успел повоевать под Ленинградом. Был ранен. Он прекрасно чувствовал танк. Я считаю, что только благодаря ему мы уцелели в первых боях. Стрелок-радист, Тихомиров Николай Николаевич, тоже старше меня, крестьянский мужичок, слов говорил мало, всегда мерз, всегда в шинели. Я считал, что, когда в бой идешь, никаких шинелей — только гимнастерка и брюки. Да и портупеи, чтобы не было, а то висли и на ней… Он так в шинели, бедненький, и погиб. С этими двумя у меня сразу сложились хорошие отношения, особенно после бутылки водки, выпитой в эшелоне на мое девятнадцатилетие, которую Крюков выменял на подаренные мне отцом хромовые сапоги. А вот с заряжающим мордвином Бодягиным мне было непросто. За что-то я ему сделал замечание, он не послушал. Второе замечание. Тут он мне при всех развил теорию: «Знаете, лейтенант, бывают такие случаи, когда по дороге на фронт сбрасывают нерадивых командиров с поезда». Я не обратил на это внимания. Вроде того что глупость ты говоришь. Да и Крюков ему сказал: «Заткнись». Вообще он был неприятный тип, пессимист, ему было все равно, поскольку он считал, что мы скоро все сгорим. Я никогда так не думал, хотя, конечно, знал, что в любую минуту это может случиться. Но я не хотел смерти и не думал о ней, а он думал. И таких, как он, было много в эшелоне. Я видел, как они первыми погибали — те, кто переживал, страдал, неспортивные. На фронте очень важно быстро выскочить из машины и быстро заскочить в нее. Я это мог, и механик мог, потому мы и живые остались. Прибыли мы на фронт в октябре 1943 года на пополнение 362-го танкового батальона 25-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. 16 октября, ночью, мы форсировали Днепр по понтонному мосту у местечка Мишурин Рог. Батальон пехоты, ранее переправившийся на правый берег реки и захвативший плацдарм глубиной три-четыре километра, встретив сопротивление, зарылся в землю. Нас бросили на поддержку пехоте. В ожидании приказа на наступление замаскировались в полусожженной деревушке. Дождь, зарядивший с утра и не прекращавшийся весь день, к вечеру перестал, что совпало с получением приказа к выступлению. Низинками и оврагами медленно продвигаемся вперед, к лесу. Дважды пришлось останавливаться — налетели фрицы, бомбившие пехоту. Выходя из пике, самолеты разворачивались прямо над нами, но, к счастью, нас не заметили. Пересекли окопы, в которых впервые увидели убитых бойцов, лежащих в неестественно уродливых позах. Санитары перевязывают раненых, уносят убитых. Из окопов выглядывают живые солдатики, улыбаются — танки пришли! Это приятное ощущение.  Вышли на западную окраину перелеска, когда уже начало темнеть. Приказали готовиться к наступлению. Мы еще надеялись, что вечером наступать не будем, но все же я приказал Бодягину выйти вперед и смотреть, не подаст ли командир роты сигнала к атаке. Сами же лихорадочно стали готовить танк к бою: вытирали смазку со снарядов, проверяли двигатель и ходовую часть. В это время бежит Бодягин, машет руками: «Заводи!» Вот так мы пошли в первый бой — без разведки, без рекогносцировки. Впереди возвышенность, что за ней — мы не видим. Правильно было бы сначала туда офицеров сводить, посмотреть, где линия немецкой обороны. Видимо, хотели добиться внезапности. Даже по радио запретили разговаривать. Слышу, слева танк завелся, и справа мотор ревет. Медленно поползли в горку по раскисшей от дождей земле. В перископе пока что темно-серая земля да небо с облаками. Когда выползли на вершину, первое впечатление — красота. Громадный шар солнца как будто зацепился за горизонт. Взглянул поближе — метрах в восьмистах идет посадка. Все тихо. Вспомнил «старичков», которые говорили, что, как только увидел немецкие позиции, сразу открывай огонь. Эффект от такой стрельбы, конечно, нулевой, однако бывалых надо слушать. Вдруг сразу в нескольких местах полоснули яркие вспышки выстрелов противотанковых пушек. Пытаюсь поймать в прицел хотя бы одну из них. Не удается. Стрелять на ходу прицельно невозможно, перед глазами земля-небо, земля-небо! Нужна короткая остановка, а в голове опять наставление ребят: остановишься и не успеешь, он успеет! От непрерывной стрельбы боевое отделение заволокло пороховым дымом, глаза слезятся, горло першит. Хорошо, что люки башни приоткрыты, и Бодягин постоянно выбрасывает стреляные гильзы, а то совсем бы задохнулись. Физическое напряжение достигает предела, однако успокаиваю себя: это ведь не вечно, должна же наступить передышка! Слева загорелся танк, справа загорелись еще две машины. Бодягин кричит, машет руками. Оказывается, экстрактировавшаяся гильза, ударившись о затыльник гильзоулавливателя, отлетела вперед и передней кромкой загнулась за пуговку стопора орудия. Бодягин справиться с ней не может — у него все руки обожжены. Сколько он их уже перекидал, пока я стрелял. Я помню, перед боем начбой говорил, чтобы мы после атаки гильзы привезли и сдали. А тут я подумал: «Вот бы тебя сюда». Я схватился за эту гильзу и — откуда только силы взялись — вырвал ее. Посадки уже совсем близко. Высунулся и вижу пушку. Механик кричит: «Сейчас тряхнет!» Пушку мы раздавили. Я еще из пулемета пострелял. Уже ночь — ни черта не видно. Оборону немецкую вроде прошли, а куда идти — не знаем. Радиста спрашиваю: «Были какие-нибудь команды»? — «По-моему, обойти справа лес, а потом связь оборвалась». Я говорю механику: «Бери вправо». Потихоньку ползем. Смотрю, темнеет стог сена. Решил выпустить по нему пару снарядов — вдруг кто там прячется. Подожгли мы этот стог. Проехали мимо, ничего там нет, конечно. Впереди чернеют дома какой-то деревушки. Остановились, я экипаж спрашиваю: «Что делать будем?» Все молчат. «Тогда разворачиваемся и возвращаемся по своему следу назад». Про деревню-то нам ничего не говорили». Вернулись к стогу, объехали его стороной, чтобы на освещенный участок не выезжать. Остановились, заглушили двигатель. Слышим обрывки разговора, но слов разобрать не можем. Вдруг по-русски кто-то как загнет — свои! Механику говорю: «Давай жми на голос». Только немножко проехали, как из-под земли выскакивают три силуэта наших солдата со связками гранат. Я с танка сразу спрыгнул. Они: «Кто такие?» — «Вот из боя возвращаемся». — «А почему со стороны фрицев? Сейчас бы мы вас гранатами угостили!» Оказывается, это разведчики, идут в деревню выяснить, есть ли там противник. Покурили и разошлись в разные стороны. Вот так закончился этот бой. Когда вернулись в батальон, из тех, с кем я в бой пошел, почти никого не нашел — все погорели. Сохранились некоторые наиболее опытные, а наше молодое пополнение почти все было выбито. Немцы после нашей атаки отошли, а потом мы их погнали. Запомнились бои за Пятихатку, вернее, трофеи, захваченные в. самом городке. Сначала был бой, нас обстреляли, мы стреляли. Проскочили на станцию, где стояло два эшелона, один с ранеными. Они пытались сопротивляться, но их всех перебили. Ребята сразу пошли по трофеи. У меня уже на машине были автоматчики, и мой заряжающий Бодягин сдружился с одним из них. Вот они вдвоем отправились. Командир батальона Лекарь наставлял нас, чтобы брали теплое обмундирование, носки. А нам, пацанам, что надо — водочки, пистолет и бинокль. Ведь мне, например, личное оружие не дали, хотя и положен был «наган». Только к концу войны я обзавелся «парабеллумом». Однажды с этими трофеями смех был. Наскочили мы как-то на горящую немецкую машину. Бодягин побежал, приволок две или три банки консервов — теплые, можно сказать, с пылу с жару. Вскрыли банки: у заряжающего и радиста — с мясом, а у нас с механиком-водителем — с овощами. Мы их выкинули, а они мясную часть съели, а под ней овощи. Оказалось, что они открыли с той стороны, где мясо, а мы — с той, где овощи. Так было обидно! После Пятихаток я познакомился с командиром корпуса генералом Кириченко. Мы подходили к очередному населенному пункту, как вдруг с его окраины раздалось несколько орудийных выстрелов и пулеметных очередей. При этом был убит один командир танка. Отошли в лощину, пока хоронили погибшего, выпивали за упокой его души и решали, как действовать дальше, со стороны деревни неожиданно показался «Виллис». Приняли было за немцев, но кто-то узнал штабиста, размахивающего фуражкой, а рядом — и самого генерала Кириченко. Оказывается, догоняя танки по другой полевой дороге, он заскочил в деревню, откуда нас обстреляли немцы, к тому времени уже смотавшиеся. Кириченко, поздоровавшись, съязвил: «Ну, орлы, деревню я освободил, можете наступать дальше!» Он показался простым, общительным, без особого командирского гонора, который встречается у иных больших начальников. Вроде неплохой мужик. Расположившись у «Виллиса» перекусить, генерал угостил нас приготовленными для него бутербродами. Вечером 24 октября мы получили приказ выйти из деревни Недайводы в направлении города Кривой Рог. Снаряды и горючее «подбросил» танк без башни, кем-то окрещенный «жучкой». Еле-еле успели заправить танк ко времени выхода. Пройдя около пятнадцати километров, мы замаскировались на день в деревушке. Рассредоточились по садкам, заровняли следы гусениц, замаскировали машины, вырубив при этом фруктовые деревья. Покончив с маскировкой, я отправил Бодягина к хозяйке на переговоры — очень хотелось горячей пищи, которую мы не видели с самого начала наступления. Вскоре он вернулся: «Договорился. Через полчаса будет горячая картошка!» Чуть погодя мне пришлось идти по вызову ротного. Подойдя к хате, в которой расположились комбат и ротный, я увидел практически не укрытую комбатовскую машину с трофейными чемоданами на бортах. Я еще подумал: «Вот нам постоянно твердят о маскировке, а сами? Небось уже „заправляются“». Не успел подойти к крыльцу, как в дверях появился ротный Тришин: «Готовься. Пойдешь в разведку!» Этого еще не хватало! Но приказ есть приказ. Однако выполнить его не пришлось — беспечность комбата стоила жизни и самому майору Лекарю, и ротному Тришину. При налете двух немецких самолетов, последовавшем буквально через десять минут после нашего разговора, оба они были убиты. От больших потерь нас спас командир танка, лейтенант Данельян, который тут же распорядился перегнать машины на другой край деревни. И вовремя! В течение дня немцы три раза бомбили край деревни, в котором мы располагались утром. К вечеру появился новый комбат, старший лейтенант Головяшкин, бывший заместителем майора Лекаря по строевой части. Мы его почти не знали. Видели лишь раз, во время торжественного построения. Вскоре после его прибытия выдвинулись дальше. Я, честно говоря, уснул и проснулся только от резких ударов гильзой по броне танка. Комбат, стучавший по броне, наорал на меня и приказал снять миномет, который я возил десантом, взять пехотинцев и отправляться в разведку. Оказывается, два танка, посланные перед тем, не вернулись. «Пойдешь на малых оборотах, если что, сигнал — красная ракета в нашу сторону!» Автоматчики, выделенные их командиром, старшим лейтенантом, устроились за башней, а мы с Бодягиным, стоя на сиденьях, высунувшись на половину из люков, пытались хоть что-то увидеть в темноте. На всякий случай приготовили гранаты. Примерно через три километра я услышал звук движущейся навстречу машины. По шуму двигателя — «тридцатьчетверка», но ведь немцы могут быть и на нашем танке! Когда, наконец, увидел силуэт машины и торчащего в башне человека, интуитивно почувствовал — наш, Фоменко или Савин. Почти одновременно остановились, спрыгиваю, бегу к машине. Выясняется, что ребята подошли к железнодорожному полотну, фрицы на платформах тягают что-то взад-вперед. Савин остался наблюдать, а Фоменко поехал за батальоном. Вернувшись к колонне, поставил машину на место, где меня поджидали минометчики, и — бегом к комбатовской машине. Фоменко предлагал ударить по немцам, пока они не готовы, но Головяшкин, выслушав всех, решил, что надо связаться с командиром корпуса, доложить обстановку, и полез в танк. Через полчаса он сообщил, что связи нет и мы должны отойти к деревне Вечерний Кут, располагавшейся в двух-трех километрах. Общее разочарование выразил Данельян: «Не то мы делаем, упускаем преимущество наше… » За Савиным отправили Фоменко, а сами — в разведанную деревню. Снова маскировка. Наступило утро. Крюков уснул за рычагами, а мы подались в хату, где наконец-то нам удалось поесть горячей картошки. Не успели перекусить, как на другом конце деревни раздался треск автоматных очередей. Быстро заняли свои места в машине. Рация молчит, и я решил сбегать к взводному Ермишину, машина которого находилась за соседней хатой. На месте его не оказалось, и я не солоно хлебавши вернулся к танку. Стрельба затихла. Наконец к нам прибежал радист взводного: «Автоматчики обстреляли немецкий обоз, который шел в деревню. Увидели, и давай палить! Нет пропустить бы и тихо, без выстрелов в плен взять. Всего-то с десяток фрицев да подводы две-три. Теперь разбежались, попрятались в кукурузе, а мы — обнаружены». В это время прошелестел снаряд и разорвался где-то в середине деревни. За ним второй, третий. Радист убежал, а мы, не ведая, откуда бьют, где противник, чувствовали себя как загнанные волки. Артиллерийский обстрел деревни усиливался, били с разных сторон, кое-где повалил черный дым — горят танки! Нервы были на пределе, когда появился Ермишин. Схватив за рукав, потянул за собой, принудив пробежать с ним рысцой метров двадцать. Мы оказались на краю большой площади. «Видишь на противоположной стороне дерево? Гони к нему, поставь машину так, чтобы наблюдать за северной стороной. И миномет подготовьте, гони!» Дерево совершенно голое, маскировать машину нечем. Миномет сняли. Командир отделения минометчиков, хороший парень, все курить у нас стрелял, своим ребятам говорит: «Давайте помогайте маскировать танк. Один на дерево — рубить ветки, остальные — внизу». Проходит буквально пара минут, и вдруг снаряд разрывается метрах в двадцати пяти от танка. Я крикнул Бодягину: «В машину!» И сам метнулся в люк. Я еще не успел опуститься на сиденье, как второй снаряд разорвался рядом с танком и на меня посыпалась земля. Я упал на сиденье, ощупал голову — все цело. И вдруг ужасная мысль — «Вилка! Сейчас третий — точно наш!» Ужас ожидания неотвратимой смерти не с чем сравнить! Но за бортом — тишина, только стоны… Люк открыл. Смотрю, двое минометчиков лежат недалеко от искореженного взрывом миномета. У дымящейся воронки — командир минометного расчета. Рядом с деревом лежит боец, сброшенный взрывом с его кроны. Подошли еще двое. Их спасла канава поодаль от дерева и сноровистость, с какой очутились в ней после первого разрыва. Бодягина нет. Тут слышу из дома кто-то зовет: «Лейтенант!» Мы с Тихомировым бросились туда. Бодягин стоит, гимнастерка задрана, живот весь в дырках, держит бинт, пытается себя перевязать и не может. Синеет. Руки трясутся. Коленки подгибаются. Щека, продырявленная осколком, багрово-синяя, с затылка на шею стекает струйка крови. Схватил его бинт, начал перевязывать. Положили мы его на шинель в угол, прямо в доме. Что делать? Какой-то сумбур в голове. Я к машине, у меня нет заряжающего. В этот момент бежит старший лейтенант, командир автоматчиков, со своим адъютантом, Петром, к моей машине: «Твой взводный уже вышел за деревню и приказал следовать за ним. Отступаем». Залезли в танк. Петька говорит: «А где Бодягин? Друг-то мой где?» Они были знакомы по Пятихаткам, когда вместе ходили «по трофеи». Притащили тогда три бутылки французского коньяка, которые мы распили с экипажем Васи Коновалова. Его радист, Голиков, морщась, изрек, что водочка его домашнего производства лучше. На что я заметил: «На вкус и цвет товарища нет», а механик тут же: «Сказал рыжий кот, облизывая свои яйца!» — и попал в самую точку — Голиков был рыжим! Так и приклеилось к нему — «Рыжий кот».  Я ему ничего не сказал: «Залезай быстрее. Будешь заряжающим, залезай». Надо догонять взводного. Выскакиваем за деревню. Слева и впереди — голые поля, справа тянется лесополоса, а за ней метрах в восьмистах цепь холмов, похожих на рудничные отвалы. Впереди увидел машину взводного и еще два танка. Ермишин шел правее их, параллельно посадке. Кричу механику, чтобы прибавлял скорость. «Догонять, догонять надо!» — это же бубнит почти в ухо старшой, он все еще на машине. Показалось — увидел вспышки на одном из холмов. Стреляют оттуда? В это время над головой снова хрипящий голос старшого: «Тигр» слева, лейтенант, «Тигр»!» Точно — слева движется по лощине, видна только башня с антенной. Поворачиваю башню: «Бронебойный, Петя, бронебойным заряжай!» Но «Тигр» уже скрылся в низинке за деревом. Выстрелил в его сторону и еще два снаряда для острастки. Механик кричит: «Взводный, Ермишин горит!» От охваченной дымом машины отделяются двое… еще один… четвертого не видно. Следом загораются и остальные два танка, шедшие впереди взводного. Ребята, кто уцелел, выскакивают, бегут влево, в сторону вспаханного поля. А ведь «Тигр» где-то там! Не он ли подбил их? «Гриша, возьми вправо, за посадку, она прикроет нас!» Он быстро свернул, а через двадцать-тридцать метров нас подбили. Били-то с холмов. От резкого торможения швырнуло вперед, лицом о казенник пушки, из носа хлынула кровь, от боли в переносице в глазах снопы искр. Все, приехали… Закричал механику: «Заводи, заводи!» А он и так давил и давил на стартер, но — безрезультатно. Подбиты! Механик оборачивается, виновато разводит руками и тут же, увидев что-то позади меня, кричит, показывает! Слова не доходят, глухой шум в ушах от контузии, но — быстро оборачиваюсь… Из моторного отделения сквозь щели прорываются язычки пламени. Мгновенно почувствовал жар, удушающий запах горелого масла, быстро заполняющий боевое отделение: «Выскакивай!» Отбросив люк, слышу вдруг резкий звук мотора. Неужели завелся?! Но пулеметная очередь крупнокалиберного пулемета, присоединившаяся к нему, все объяснила: на нас пикирует самолет! Метнулся под танк, краем глаза заметив, что тело Тихомирова свисает из люка механика-водителя. Лежать под танком больше нельзя, каждую минуту может взорваться боекомплект и… Пули стучат по броне, каткам, гусеницам. Механик кричит: «Немцы, лейтенант». Выскочили из-под машины — и стремглав в сторону, на распаханное поле, куда минутами раньше бежали ребята с подбитых машин. Крюков — в десяти-пятнадцати шагах от меня. Огонь усиливается. Жуткий свист пуль прижимает к земле, заставляет сгибаться, хочется брякнуться, распластаться, но тогда не уйдешь… только бы не в ногу, не в ногу… не уйдешь, возьмут раненым. Надо сделать вид, что попали, убили, надо падать! Валюсь на землю. Дыхание — как у загнанной собаки, но стрельба прекратилась… поверили. Механик завалился, как и я, жив, слава богу! Отдышавшись немного, не сговариваясь, одновременно вскакиваем, мчимся дальше. И все повторяется сначала: бешеный огонь, жуткое жужжание «пчел», пакостные мысли о близкой смерти. Но стал замечать — пули свистят выше, над головой, значит, ушли далеко — не попадут. Есть надежда уцелеть. Опять рев авиационного двигателя! Падаю на землю, вверх лицом, чтобы видеть свою смерть. А он с разворота, чуть не задевая колесами землю, проносится над нами. Вытягиваюсь вдоль борозды и начинаю лихорадочно забрасывать себя землей. Еще заход — он нас не видит и не стреляет. Когда все улеглось, встали и побрели. У механика — автомат, подобрал у танка. Несем попеременно, кажется очень тяжелым. Вдруг позади раздался мощный взрыв, обернулись и — вздохнули с облегчением: на месте нашей машины бесформенная масса. Спустились в лощину, где набрели на родник. Умылись, передохнули. Пошли дальше и вскоре наткнулись на автоматчиков. Их — трое, и надо же — Петр! Уцелел… У них и вещмешки, и шинели, и автоматы. Молодцы ребята — не бросили. У одного автоматчика — осколок в плече. Отвели их к роднику, благо ушли не далеко. Перевязав раненого, двинулись дальше. В другом овраге — еще несколько наших, в основном автоматчики, и — радист взводного. Уцелел. Об остальных не знает. Кажется, Ермишин выскочил, но… разминулись… Может… подстрелили? Собралось всего тринадцать человек, и старшой, командир автоматчиков, тоже тут. Сам без сапог, в одних трофейных носках. Пахота, видать, далась старшому нелегко… Но удивился я другому: погоны тоже оказались тяжелы… их не было на плечах. В общем, выглядел он не лучшим образом. Тут же, как старший по званию, хотя этого уже не было видно, начал командовать, как уходить, кому с кем и т. п. Чтобы не участвовать в комедии «начальство — подчиненные», мы с Крюковым расположились подальше от него, не вмешиваясь и не обращая внимания на советы, решили, что как найдем нужным, так и двинем к своим. Прибился к нам и Петр. Несколько автоматчиков попытались пойти в сторону Недайводы, но наткнулись на большое открытое пространство и вернулись назад. До вечера подремали, а ночью двинулись к своим. Под утро добрались до деревни Недайводы и, свалившись у порога первой же хаты, полностью забитой солдатами, отключились. К вечеру собрались в одной из штабных хат командира корпуса Кириченко. При разборе трагедии узнали, что виновен в нарушении связи офицер, отвечавший за нее. Перепоручив дежурство на рации сержанту, он отправился к очередной фронтовой знакомой в соседнюю деревню, а утром погиб под бомбежкой. «Предатель, — выразился о нем Кириченко, — жаль, погиб, расстреляли бы принародно». Командующий расспросил нас о подробностях трагедии, действиях командиров. Удивило отсутствие осуждения в адрес Головяшкина. Вся вина за происшедшее легла как бы на офицера связи. В конце беседы заверил: «Все будете награждены по заслугам». Однако я так и не дождался этой награды. Только в конце войны за участие в боях под Кенигсбергом и на Земланском полуострове я был награжден орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды. Так что все в норме. Приятно, конечно, когда у тебя больше, но в то же время я уцелел, а многие погибли… После этих боев я попал в резерв 5-й гвардейской танковой армии, откуда меня отправили в тыл, на заготовку хлеба. Жили мы в деревне Сарычанского района Днепропетровской области, а в ней — одни девчонки. Наши ребята все временно поженились. Хлеб неубранный стоит. Поставили нам задачу — убрать хлеб для своей армии. Меня назначили заведующим мельницей. Так я ею и заведовал в танкошлеме. День и ночь должны были молоть, но к вечеру мельница «ломалась», а с утра ее «ремонтировали». Жили мы там весь сорок четвертый год очень неплохо. Может быть, это мне и сохранило жизнь… 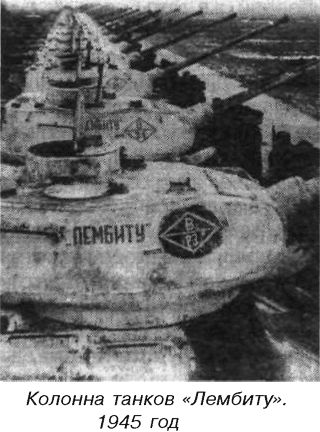 В конце сорок четвертого года из резерва 5-й гвардейской танковой армии я попал в резерв фронта, а уже оттуда в 159-ю танковую бригаду 1-го танкового корпуса, куда прибыл в начале сорок пятого года. Корпус был потрепан в боях, и в бригаде танков не было. Через полтора месяца мы получили колонны танков, якобы построенных на деньги эстонского народа, — «Лембиту». В штурме Кенигсберга мы особого участия не принимали — там все сделали пехота, артиллерия и авиация. А потом нас перебросили на Земланский полуостров. Прорыв немецкой линии обороны делали танкисты других частей, а нас через пару дней ввели в открывшуюся брешь. С немцами мы столкнулись у местечка Гермау, в четырех километрах от моря, ночью. Три машины пошли в разведку и накрылись, а утром 16 апреля мы пошли в атаку. Местечко располагалось чуть в низинке, а за ним возвышенность — там немцы и укрепились. К этому времени в батальоне остались только машины командиров рот, одной из которых я и командовал. Мой ротный был ранен. Командир бригады разрешил двум другим командирам — Левицкому и Шутову — не идти в бой. Все же понимают, что войне конец, а погибать под самый ее занавес никому не хочется. Шутов не слез с машины, а Левицкий в атаку не пошел. Забегая вперед, скажу, что все из той атаки вернулись, но машины мы потеряли. Вот так… Пошли в атаку на эту возвышенность. Механик не повел танк по дороге, а взял правее. Может, объезжал что-то, а может, и специально подставил машину моим бортом. Тут нас и подловили: левый борт разворотили, а последнее попадание — в пушку. Башню крутануло. Я попытался выскочить — люк заклинило. Выскочил через люк заряжающего сразу за его ногами, а справа от танка — громадная воронка, гусеница прямо на краю ее. Раздумывать некогда, надо быстрее прыгать, пока не убили. Чтобы не соврать, летел я метров пять. Ничего не сломал! Механик уже внизу говорит: «Я ранен». Осколок ему в пятку попал. Перевязали его и поползли назад, к деревне. Я заряжающему сказал, чтобы он механика сопровождал, а сам пополз к видневшемуся впереди пулеметному окопчику. Пистолет в руке, носом землю загребаю. Дополз. Пистолет землей забился, да так, что я его потом выкинул — не смог почистить. Кое-как доползли до домов. Завалились в подвал ближайшего дома. Там я нашел шубу с большим воротником, лег на нее и уснул. Проснулся утром. На улице какой-то гомон. Вышел — ведут пленных немцев, оказалось, что, пока я спал, оборону их разнесли и пошли дальше. Пошел я к своей машине — тридцать семь попаданий! На трансмиссии у меня были чемоданы с кое-какими трофеями — все в клочья. Сохранились только мои домашние фотографии, платочки и еще что-то. Какие там трофеи! Главное, жив остался. Какое было отношение к немецкому населению? Я сам по характеру не злой. Помню, в Восточной Пруссии спросил у немца спички — прикурить. Он подает коробок, я прикурил и ему возвращаю коробку. Ребята смеются, мол, чего я ему их вернул. Ну, а наши… были эпизоды. У ребят, у кого родные в оккупации погибли, те безжалостные были. Один мальчик, у которого семья погибла, выпил изрядно, взял автомат и очередь по колонне пленных как дал! Ему, конечно, дали по башке за это, но скольких-то он убил. Видел я мертвую девушку с задранной юбкой, лежащую у разбитой повозки. Были у нас ребята — Гриша с Кубани, узбек один — эти по девчонкам немецким ходили. Родители их припрячут, а эти давай искать. Я к этому относился брезгливо. Все было… Потому что и люди разные, и обстоятельства разные. Может, если бы у меня семья погибла, и я бы тоже мстил им. В мае месяце корпус грузился на платформы для отправки на войну с Японией. Погода была отвратительная. Сидим в помещении вокзала, вспоминаем прошедшие бои. Там у нас танк подорвался на фугасе. Заряжающего вместе с башней отбросило метров на двадцать. Все погибли, а его только контузило. Через три дня пришел из пехотного санбата, заикается. Посмеялись. Вдруг автоматная стрельба. Потом пушка хлопнула. Все замолчали, насторожились. В чем дело? Потом кто-то из нас говорит: «Немцы?» — «Нет. Война кончилась». Выскочили из здания, а по всему небу пули сверкают. Война окончилась!!! Я бегу на свой пост, смотрю, кто-то из окошка автомат выставил и палит от радости. Я выхватил у солдата винтовку и начал стрелять. Радость неописуемая. Война окончилась! Где тут спать… Тут уж не до сна было. Вот так закончилась война. 1-м танковым корпусом командовал генерал Гудков, заядлый болельщик. После войны, когда мы стояли под Гумбинином, он организовал футбольную команду. Там же были освобожденные нами репатриированные итальянцы и французы, которые тоже создали команду. Устроили матч, но, когда счет стал 8:0 в их пользу, он встал, сказал: «Засранцы!» и ушел. РОДЬКИН АРСЕНТИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
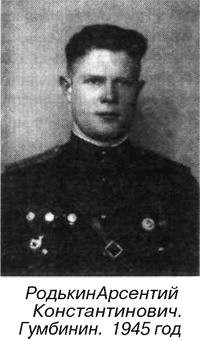 Я родился в 1924 году в небольшом селе Перовка, находящемся в Самарской области. К началу войны закончил семь классов и пошел учиться в школу механизаторов в городе Борское. Осенью 1941 года нас, студентов, отправили в селения немцев Поволжья на уборку урожая. Вскоре немцев выслали в Сибирь, и мы остались одни. Через месяца полтора нам на смену стали прибывать беженцы, эвакуированные с Украины и Белоруссии, которые вселялись в оставленные дома, а мы вернулись в Борское. Там я закончил курсы по специальности «слесарь-монтажник сельхозмашин» и вместе с двумя такими же, как и я, выпускниками был направлен в село работать в машинно-тракторной мастерской. Заработок мизерный, кормили нас плохо — давали грамм шестьсот хлеба, и все. Ну, пока были деньги, мы ходили на рынок, покупали картошку, молоко, потом деньги кончились. Я говорю: «Ребята, мы так закочуримся. Надо отсюда сматываться». Мы втроем дали тягу. Шли в свой родной поселок напрямик, через глухие деревни, не тронутые войной, где еще не было эвакуированных. Входили в дом. «Откуда вы? С окопов, что ли, идете?» — «С окопов». — «Ой, бедненькие!» Одежонка паршивенькая, мы обморозились все — мороз-то градусов 20 — 25. «Лезьте на печку, грейтесь». Нас накормят, а утром идем дальше. Пришли домой, и я устроился в ремонтные мастерские, а весной пошел работать трактористом. Осенью 1942 года меня призвали. «Кем работаешь?» — «Трактористом». — «Пойдешь в танковое училище». Честно говоря, воевать мне не хотелось, и, если бы можно было не воевать, я бы не воевал, потому что не в моих интересах было защищать эту советскую власть. Что ты удивляешься? Думаешь, что все «ура-ура» кричали? В сорок первом году моего дядю арестовали. В училище я узнаю, что он погиб где-то на севере. Мне так обидно стало. Я даже бежать из училища хотел, но потом решил, что кремлевские негодяи приходят и уходят, а Родина все же остается. Меня сильно задевало, что какая-то там немчура дошла до Волги. Как это так?! Надо, как говорится, дать им по рогам. Так что я на фронте Родину защищал, а не советскую власть. Ну вот, направили меня сначала в Сызранское, а оттуда в Ульяновское танковое училище. В училище изучали материальную часть, тактику действий одного танка и танка в составе взвода. Преподавали нам стрелковое и танковое вооружение, знакомили с техникой и оружием противника. Отдельно шли занятия по организации связи, элементарному шифрованию. Правда, никогда на фронте мы шифрами не пользовались, только примитивным: коробочки — танки, карандашики — пехота, орешки — снаряды. Конечно, были практические занятия с вождением и стрельбой. В общем, все то, что надо на фронте, и, конечно, политика. Должны были изучать «Краткий курс истории ВКП(б)». Особенно тщательно изучали приказы главнокомандующего, которые надо было конспектировать, но этих приказов было так много, что мы не успели. И конечно, строевая, уставы. С месяц позанимались на Т-34, а затем нашу группу перевели на КВ. В 1943 году училищу присвоили гвардейское звание. С присвоением этого звания связана такая смешная история. Заместитель начальника училища был полковник Наумов, фронтовик, суровый пожилой мужчина, мимо себя не пропускал ни одного курсанта, чтобы не придраться. Вроде все у тебя нормально: форма по уставу, сапоги начищены. «А у тебя иголка с ниткой в пилотке есть? Нет? Пять суток». И еще добавит: «Индюк». Когда присвоили гвардейское звание, он задержал одного курсанта, придрался: «Опять непорядок, индюк». — «Никак нет, товарищ гвардии полковник, не индюк!» — «В чем дело?!» — «Гвардии индюк, товарищ полковник!» — «Сукин сын, полковника рассмешил. Марш отсюда!» В 1943 году закончили восьмимесячную программу училища и поехали в Челябинск, на Кировский завод, за танками. Мы пробыли в Челябинске до января 1944 года. Завод уже не выпускал танки KB, перестраиваясь на выпуск ИС. За несколько месяцев в резерве, куда прибывали танкисты не только из училища, но и из госпиталей, с фронта, скопилось большое количество офицеров в звании от младшего лейтенанта до капитана. Сначала нас кормили по третьей норме, а когда скопилось слишком много народу, нас перевели на питание вольнонаемных. А люди все прибывали и прибывали. «Тридцатьчетверышники» приедут, переночуют, и на второй день они получат танки — и на фронт, а мы сидим. Мы-то еще «зеленые», терпим, а фронтовики постарше, уже опытные, подняли бучу: «Что вы нас держите здесь голодных? Отправляйте на фронт!» К нам прибыли командир запасного полка с командиром запасного корпуса: «Ребята, чего вы бузите?» — «А чего нас голодом морят? Отправляйте нас на фронт. Что мы тут сидим, лапу сосем!» — «От нас ничего не зависит. Мы запросим Центр». Вскоре нас стали отправлять командами по двадцать пять человек в Москву, в резерв БТМВ. А там Федоренко схитрил, назвал запасной полк, в который мы прибыли, учебным. А раз учебный, то там и питание по девятой норме. В этом полку нас переподготовили на Т-34 и отправили в Горький. В Горьком меня определили в маршевую роту, дали экипаж. Командир роты, представляя меня экипажу, сказал: «Вот механик-водитель, Александр Иватулин, у него дисциплина хромает. Ты, если что, палкой его лупи». Тот стоит, улыбается. «Товарищ старший лейтенант, до палки не дойдет, мы найдем общий язык». Вскоре мы поехали в Сормово, получили танки. На полигоне в районе станции Козино сколачивали роты, проводили тактические занятия с боевыми стрельбами. Вот так я стал командиром танка. Погрузили нас в эшелон и отправили на фронт. И надо же было кому-то додуматься прицепить к нашему эшелону вагон с водкой — две пивные бочки литров по пятьсот в каждой. И вот однажды утром я смотрю, а наводчик Габидулин еле-еле на платформу забирается. Я его спрашиваю: «Что с тобой?» Сначала отнекивался, а потом сознался: «Товарищ лейтенант, я почти котелок водки выпил». — «Откуда водка? Ты в своем уме? Ты где ее взял?» — «В конце эшелона вагон, а там водка. Возьмите что-нибудь, сопровождающий вам нальет». Оказывается, ему налили в котелок. На обратном пути ему попался начальник эшелона: «Что несешь?» — «Воду, товарищ лейтенант». Но тот, видимо, почувствовал что-то: «Выливай». — «Это не вода, а водка». — «Тогда пей, сколько сможешь, а остальное вылей». Ему жалко было выливать, и он выпил весь котелок, вылив немножко для вида. Елки-палки! «Лезь в танк, ложись на боеукладку, оттуда не высовывайся, а то начальство меня взгреет». А сам взял двенадцатилитровое танковое ведро и пошел к вагону. Потом из этого ведра заполнил трехлитровые бочки для воды — НЗ, а оставшиеся полведра — это расходная часть. Приезжаем во Ржев. Там стоит наш эшелон и эшелон с пехотинцами. Оказалось, что в этом эшелоне едет младший брат одного из командиров взвода нашего батальона, Ивана Чугунова. Что делать? Надо младшего забирать. Побежали к начальнику эшелона пехоты, сочинили какую-то бумагу да сверху поставили три литра водки начальнику пехотного эшелона, три литра — коменданту. Вот так Василий попал к своему брату, и они вместе воевали. Старший Чугунов стал командиром роты, и, когда мы выходили из окружения осенью 1944 года, он отличился, и ему Героя дали. Уже после войны мы всегда Василию напоминали: «Вась, помнишь, как мы тебя за три литра водки выкупили?» Мы прибыли под Витебск на станцию Бычиха где-то в 20-х числах мая 1944 года и влились в состав 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса. Корпус состоял из 89-й, 117-й, 159-й танковых и 44-й механизированной бригад. Были в его составе артиллерийские полки, полк «катюш» и артиллерийско-самоходный полк на СУ-76, которые мы называли «брезентовые ФЕРДИНАНДЫ».  В это время готовилась операция «Багратион». Мы ездили на рекогносцировку, причем переодевались в солдатскую форму, чтобы не привлекать внимания противника. 21 июня мы сосредоточились в лесу, километрах в пятнадцати-двадцати от переднего края. Всю ночь шел сильный ливень. Утром началась артиллерийская подготовка, а потом в атаку пошел штрафбат. Хотя фронт стоял в этих местах почти полгода, но эшелонированной обороны у немцев не было, и штрафники быстро прорвали фронт. Утром мы пошли не в атаку, а в колонне по дороге. После ночного ливня дороги стали непролазные. Танки позли на пузе, еле-еле цепляясь за твердый грунт, оставляя за собой глянцевый след утрамбованной днищем грязи. Немцы сопротивления не оказывали, нам больше доставалось от наших же штурмовиков, хотя в нашей колонне был представитель штурмовой авиации, но пока он даст координаты, пока там соберутся, вылетят штурмовики, мы уже подойдем к месту предполагаемого нахождения противника. Штурмовики нас же начинают бомбить. Нам-то ладно, мы в танке. А пехота — на броне. Приходилось останавливаться, все разбегались. Прятаться негде, везде болото, мокро, грязь. Короче говоря, впечатления от первого дня в наступлении такие остались — танки в колоннах, штурмовики штурмуют, немцы бегут, а мы их преследуем. В нашей роте поначалу потерь не было. Но на второй или третий день наступления погиб командир орудия. У танка порвалась гусеница, ее зацепили тросом, а сам танк начали буксировать другим танком в лес. Тут налетели немцы и начали бомбить. В этой нервозной обстановке командира орудия, сидевшего за башней поврежденного танка, прижало орудием буксировавшего танка к башне, раздавило таз, и через полчаса он умер. Перед Ветрино сломался танк командира взвода — фрикцион отошел. Командир пересел на мою машину, а я остался с неисправной. Ночь провозились, но починить не смогли. Уже под утро приехали ремонтники, привели танк в порядок. Зампотех бригады указал мне на карте место действия бригады, а сам укатил. Место-то он указал правильно, а дорогу не ту. Мы заблудились и решили вернуться назад. За рычаги сел механик-регулировщик. Дорога шла под гору, а внизу резко сворачивала вправо, огибая болото. Опыт вождения у него был небольшой, он не удержал танк, и тот на хорошей скорости влетел прямо в болото, где и увяз по самые уши. С трудом, при помощи бревна, мы танк вытащили. Как происходит самовытаскивание? Бревно подводится под обе гусеницы и крепится к ним тросиком. При движении назад бревно остается на месте, а танк на длину корпуса подается назад. Теперь бревно освобождается, и процедура повторяется до тех пор, пока танк не выберется на твердый грунт. Если есть куда трос прикрепить, то его можно просто одним концом за дерево, а другим за гусеницу, чтобы она его наматывала, но у нас такой возможности не было. Танк вытащили, но при этом порвался маслопровод, и стало бить масло. Вообще, сплошное невезение. Кое-как ночью выехали на то же место, где остановились вчера. Легли спать. Утром приезжает зампотех бригады: «Чей танк?» — «Мой». — «В чем дело? Почему не догнали бригаду?» — «Вы же мне дали не тот маршрут». — «Ну, ладно, ладно. Давай двигайся по этой дороге». В общем, пока мы чинились да блудили, Ветрино взяли, а в мою машину, на которой был командир взвода, попала то ли мина, то ли снаряд, в перископ заряжающего — крышу танка проломило, убило заряжающего, сорвало люк заряжающего, перископ сорвало. Задний кронштейн, на котором крепится прицел, сбило, и прицел болтается на переднем креплении. Седов, начальник штаба батальона, меня встречает: «Твой танк все равно неисправен, садись на трофейный велосипед, поезжай к отставшей штабной машине привези карты, а то уже кончились». А я, считай, уже вторую ночь не спал, но что делать — приказ есть приказ. Возле танка остался командир орудия — остальных забрали в другие машины. Нашел машину, карты в трубку свернули, я обратно на велосипеде приезжаю. Пока я ездил, машину разукомплектовали — весь инструмент забрали, поставили совершенно посаженный аккумулятор, топливо слили, сняли мотор поворота башни — рукой за пушку можно башню крутить — голая машина. Я к наводчику: «Что же ты не отстаивал интересы машины?» — «Комбат приказал». — «Вот тебе карты. Догоняй батальон на попутных машинах, вручишь начальнику штаба и вернешься. Возьми там что-нибудь поесть». Он поехал догонять, а я и артмастер остались с машиной. Я залез под танк, спать хочу страшно. Только лег, артмастер кричит: «Лейтенант, немцы!!!» — «Какие немцы, откуда?» — «Вдоль железной дороги идут сюда. Вылезай, скорее. Надо что-то делать». Посмотрели — то ли немцы, то ли не немцы. Черт его знает. Что делать? Топлива нет. Нашел несколько тазов с газойлем, которым смазку со снарядов отмывают, и бутылку из-под трофейного шампанского, отбил дно, сделав из нее воронку. Нет фильтра. Пришлось прямо так заливать. Аккумуляторы разряженные мне поставили, хорошо, что воздух был — завел двигатель. Подъехали к деревне, остановились. Через некоторое время едет заправщик: «Слушай, друг, налей в запасной бачок мне литров сто. Мне хоть доехать до своих, чтобы там заправиться». — «Нет, вы чужой». — «Ты что, в колхозе, что ли? Мы же общее дело с тобой делаем. Танк без топлива стоит. Ты срываешь его боевую задачу. Я запишу твой номер и доложу по команде. И ты как минимум штрафной получишь». — «Ладно, наливайте». Заправили литров сто. А голодные. Зашли в хату: «Хозяйка, у вас нельзя чем-нибудь разжиться?» — «Вон кролики бегают. Ловите их, и пожалуйста». А как ловить? Достал «наган», подстрелил кролика. Хозяйка сварила. Мы поехали дальше, и на повороте, рядом с болотом, порвалась гусеница, а вдвоем ее не натянуть. Артмастер говорит: «Что я буду сидеть, мне надо в батальон». — «Чего же ты меня одного бросаешь? Ладно, поезжай». Через некоторое время, смотрю, едет заправщик нашего батальона, Костин, старый вояка. На KB воевал под Сталинградом. В районе сосредоточения этот Костин молодых собрал и рассказывает, как он воевал под Сталинградом: «Знаете, у KB — броня во! Однажды немцы как дали болванкой, смотрю, болванка красная и лезет, и лезет через броню. Я схватил кувалду, как врезал по ней, так она и отлетела». Молодежь слушает его внимательно — ребята еще не были на фронте. Я отошел, засмеялся. Тут я говорю: «Костин, давай заправь меня». — «Ну, давай. Мне все равно кого заправлять». Начали ручным насосом качать. Заправились, попросил я его передать в батальон, в каком я положении нахожусь. Костин уехал, я один остался. Ночь. А машина открытая, люка наверху нет. Что делать? Ведь любой может прийти и сонного придушить. Однако переночевал, а утром вижу, идет старушка. Хотя какая она старушка — может, ей лет сорок было, но для меня, пацана, старушка. Остановилась около танка, разговорились: «Вы куда идете?» — «У меня сын в партизанах погиб. Вот иду искать его могилу. Дом разграбили, даже лошади нет, чтобы огород обработать». — «Знаешь, мать, приходи завтра, я постараюсь тебе лошадь найти». Дело в том, что, когда мы наступали, не только немцы отходили, но и наши, русские. Поскольку наступление было быстрым, они не успевали далеко уйти и возвращались обратно. Вскоре я увидел повозку, которую тащила одна лошадь, а вторая была привязана сзади. Останавливаю: «Вам далеко ехать?!» — «До станции. Километров пять». — «Оставьте мне одну лошадь». Они беспрекословно оставили мне лошадь, которую я пустил пастись. На следующий день приходит эта женщина: «Вот вам лошадь, забирайте, используйте». Она в благодарность принесла мне котелок яичницы, самогонки две бутылки, хлеба. Я говорю: «Зачем это? Вы сами испытываете трудности. Я не для этого вам лошадь достал». — «Ничего. Бери. Ешь. Там впереди речушка, а мост через нее танк развалил. Там ваши танкисты, что-то делают». Она ушла. Я сел на велосипед — и туда. Действительно, Иван Бедаев при попытке переехать мост через речку утопил танк. Их уже вытащили, и они приводят себя в порядок на берегу. Договорились дотащить мой танк до берега речки, а то в болоте натягивать гусеницу неудобно. Зацепили тросами танк, к танку гусеницу. Приволокли туда, натянули. Я говорю: «За то, что вы мне все сделали, я вас угощаю». — «Чего у тебя? Сам небось голодный?» — «Не, я не голодный. Самогонкой вас угощаю». — «Откуда у тебя?» — «Добрые люди есть». Сели, выпили и поехали. Догнали бригаду, сдал в ремонт машину, а сам принял другую. Опять со мной механик Иватулин, остальной экипаж новый. Наступление продолжалось. В июле стояла жара, дороги высохли. А надо сказать, что «тридцатьчетверка» на проселках поднимает страшную пыль, потому что у нее выхлопные трубы направлены вниз, и если раньше нам мешала непролазная грязь, то теперь сквозь эту пыль ничего не было видно. Где-то 12 или 15 июля 1944 года наш батальон двигался по дороге, ожидая, как сказали, встречи с «Тиграми». Впереди шел танк командира роты Чугунова, я следовал за ним, но вскоре я механику говорю: «Ни черта в этой пыли не видно. Сворачивай с дороги к лощине». Спустились в лощинку и пошли вдоль дороги, по которой двигались основные силы батальона. По нам открыли огонь, но снаряды пролетали выше. Вот здорово! Лощина впадала в широкий овраг, на противоположной стороне которого был виден хуторок, перед которым высилась огромная куча собранных с полей камней, а за хуторком — небольшой холм. Наши танки пошли слева по дороге, а я прямо к этому хуторку. Вдруг с кучи камней по нам начал бить пулемет. После того как мы туда осколочным засадили, он замолчал. Поднялись по скату оврага, на котором была посеяна рожь, к этой куче камней. От нее, как мыши, в разные стороны разбежалось человек пятнадцать немцев. Чуть слева остался деревянный хозяйский дом с цокольным этажом из дикого камня. Куда эти немцы разбежались, черт их знает. Главное для нас — немецкие танки и пушки, а пехота — это ерунда. Вроде ничего подобного на хуторке нет. Впереди, метрах в пятидесяти, как я уже сказал, бугорок. Оттуда высовываются две каски. Дали по ним очередь из пулемета и три-четыре снаряда положили. Все затихло, никто не высовывается. А на дороге что-то горит. Думаю: «Черт возьми, танки, наверное, горят. Значит, по ним действительно „Тигры“ бьют». Иватулину говорю: «Давай на этот бугор. Надо огнем ребят поддержать». — «Младший, — он меня „младший“ звал, — мы высунемся, они нас как корова языком слижут». Он прав, но что-то делать надо! Чувствую, мы одни тут. «Ладно, стойте здесь». Взял гранаты и выскочил из машины. Спрыгнул в рожь. Лег. Черт его знает, почему меня понесло. Иватулин: «Младший, куда ты?!» Думаю, сейчас на бугорок заберусь и посмотрю — что да как. «Наган» вытащил, ползу. И вдруг передо мной немец! Лежит, прижавшись к земле, в правой руке у него автомат. Видимо, он не слышал меня, или его оглушило, или он так наложил в штаны, что не соображал. Я его из «нагана» уложил, автомат — в руки и пополз дальше. Подполз к углу дома, за угол выглянул, а там в окопчике немцы! Я из автомата по ним полоснул и обратно за угол. Они заорали. Высунулся — они там деморализованы. Чувствую, что время не надо терять, иначе мне каюк. Кинул пару гранат, кого-то убил, кого-то ранил. Один из-за кучи камней выскочил и побежал к лесу, что был метрах в двухстах за хутором. Я из автомата хотел его срезать, а у меня уже патроны закончились. Автомат бросил, из «нагана» пару выстрелов сделал — не попал: «Черт с тобой. Беги». А на этом бугорке яма была, видимо, глину из нее брали. В этой яме двоих пленил.  Что с ними было? Черт его знает. Они были какие-то парализованные. Меня убить — ну, ничего не стоило. Тут экипаж подоспел, подошли еще два или три танка. Начали обследовать. А в цокольном этаже дома была дверь, я, еще когда в танке сидел, думал, что надо бы туда снаряд загнать, но потом забыл. Ребята взяли шест и сбоку толкнули эту дверцу. Она открылась, потом тихонечко опять закрылась. Тогда они взяли пучок соломы, подожгли, шестом открыли дверь и солому бросили. Немцы, а их там сидело человек девять, загалдели и выскочили. Как потом уже выяснилось, на этом хуторе стояла мощная радиостанция. Так что это были связисты-тыловики. Мне повезло, если бы это были закаленные в боях пехотинцы, мне бы несдобровать. Потом нас замполит Ганапольский, между прочим, отец Матвея Ганапольского, все шутил, что Родькина можно с одним «наганом» против роты немцев пускать. Оттуда мы повернули на север и пошли на Двинск. В атаку не ходили. Редко нам приходилось делать классическое наступление на подготовленную оборону. Немцы пользовались засадами, в которых, как правило, использовали «Артштурмы» — самоходные установки с 75-мм пушкой. Они очень тихо двигались, низенькие, легко маскируются — их чрезвычайно трудно обнаружить. Мы шли походной колонной: головной дозор, несколько танков впереди, остальные — на расстоянии. Если немцы устроили засаду, как правило, головной дозор накрывается женским детородным органом. Живые выскакивали, оставшиеся танки начинали стрелять. А куда стрелять? Черт его знает! Они уже смотались. Постреляли, свернулись в колонну и опять их преследуем. Кого нагоним — уничтожаем. Вот раз наскочили на засаду. Два танка впереди сожгли, третий включил заднюю скорость и отходил, отстреливаясь. Ему прямо под погон башни болванку влепили, и он загорелся. А мы с дороги свернули и заглохли — кончилось топливо. Благодаря этому мы услышали, как внутри горящего танка кричали люди. Я сел за пушку и бил в направлении противника — я их не видел, но пугал, а экипаж с огнетушителями побежал помогать. Открыли люк. Командир танка весь израненный выскочил, видимо, в горячке не понял, что ранен, и рядом с танком упал. Вытащили механика-водителя, командира орудия с перебитой ногой, погибли радист и заряжающий. Механик-водитель был без сознания и до госпиталя не доехал — умер по дороге. После этой засады мы остановились на ночлег. Ночью мы в танке закрылись и спим. Пехота нас охраняет от немцев. Утром просыпаемся, садимся завтракать. Иватулин хоть и обрусевший, но все равно татарин. Отчаянный парень, ничего не боялся. Его все считали трофейщиком: то трофейную машину приведет, то танк. Ходил с немецкой винтовкой, по самолетам стрелял. В этот раз он где-то добыл поросенка. Ребята на завтрак сварили его в бельевом баке. Сели, едим. От нас метрах в ста убитая лошадь лежит — тушу раздуло, словно резиновую игрушку, и ноги растопырило. Наводчик Жданов, покойник, говорит: «Слушай, Саша, тебе нельзя свинину есть». — «Почему?» — «Ты же вроде магометанин. Тебе ваш Аллах конину приготовил. Вот смотри, какого жирного коня тебе Аллах прислал. Свинину не ешь, смотри, какая жирная конина». Саша берет «парабеллум», стреляет. Газ вышел, туша сдулась. «Лошаденка-то тощая. Чего ты мне предлагаешь?!» После завтрака пошли дальше, но уже в другом направлении. Вытянулись в колонну, и вдруг головной дозор пропал. Неизвестно, что с танками, что с людьми. Комбат остался в лесочке, а наша рота выдвинулась километра на полтора. Позиция у нас была плохая, посреди заболоченной низины, поросшей низким кустарником и небольшими деревцами. Впереди, в километре, населенный пункт, а справа — ведущая к нему дорога. Наблюдая за населенным пунктом, я заметил среди домов и посадок «Тигр», но прицелиться по нему не смог — мешали ветки деревьев. Тогда я пошел к командиру взвода лейтенанту Беликову, попробовать махнуть немца с его танка. Его танк стоял несколько боком к этой деревне, на открытом месте. Беликов спал в танке.  Взобрался к нему на башню, там уже стоял его механик-водитель старшина Моисеенко. Разбудили командира. Я говорю: «Смотри, между домами „Тигр“ стоит». — «Да не может быть. Это амбар какой-то». — «Нет, там квадрат, а посередине что-то черное». В бинокль еще раз посмотрели — вроде похоже на танк. Решили по нему шарахнуть. Только взводный стал разворачивать пушку, я увидел вспышку и закричал старшине: «Прыгай!» Сам прыгнул за танк, а он спрыгнул на сторону, обращенную к противнику. Болванка попала в борт танка, срикошетировала и снесла ему череп. Вторым выстрелом немец попал в шаровую установку пулемета, а третьим — в командирскую башню, правда, броню не пробил. Беликов выскочил из танка: «Надо уводить танк, где механик?» — «Вон лежит». А тут еще их самолеты налетели. Бомб у них не было, но они кружили, обстреливали нас из пулеметов. Я вернулся к своему танку. Рядом с ним пристроился Иватулин с винтовкой и палит по самолетам. А уже автоматные очереди слышны и пульки посвистывают. Надо тикать. Заряжающему говорю: «Сходи посмотри за кустами, что там делается». А он, мальчишка: «Лейтенант, ну что же вы меня посылаете, меня же пристрелят». — «Ладно. Иватулин, хватит развлекаться, давай садись за рычаги, надо уходить». Он начал разворачиваться и немножко забуксовал в болоте. Туда-сюда, а мы уже одни остались, остальные танки смылись. Один танк решил махануть через дорогу и за насыпью уходить. В принципе правильно, поскольку до леса, в который мы отступали, было открытое пространство. Но не успел он перескочить, как «Тигр» рубанул его. Я увидел только клубы черного дыма — накрылись ребята. Уже потом оказалось, что болванка попала в запасной топливный бак. Разлившееся топливо вспыхнуло, но, прогорев, погасло, и они не пострадали. Однако, проскочив на полной скорости через дорогу, они врубились в мощное торфяное болото и зарылись в нем чуть ли не по башню. Так и сидели там, пока их не вытащили. 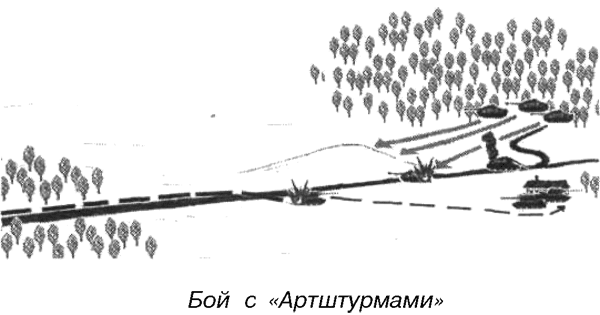 Ну, а мы кое-как выбрались на твердую почву. Иватулин дал газу, видимо, решив, что я заскочу на трансмиссию, а это делать уже было опасно — автоматчики могли снять. Мне бы надо было через люк механика-водителя в танк заскочить, но он, как вывернулся из болота, так дал газу. Я оказался сбоку танка и бегу под его прикрытием. Бежал, бежал, танк-то быстрее двигается, я уже выдохся, а танк вышел на дорогу, включил третью передачу и помчался, а я упал в кювет. Отдышался, перескочил на другую сторону дороги. Там стоял танк, командир которого был полностью дезориентирован. Я ему говорю: «Мы отступаем. Давай к лесу». Встречает меня начальник штаба Гладков: «Чего ты панику устроил?» — «Какую панику?» Оказалось, что Иватулин проскочил через порядки батальона и умчался в тыл. «Мой танк последним отходил, но я на него не успел». — «Ладно». Добрался до своего танка, устроил Иватулину нахлобучку за то, что бросил командира и умчался неизвестно куда. Через некоторое время приезжает командир взвода Беликов: «Давай с Люберцевым поезжай в тыл. Пришла радиограмма от командира бригады — ему нужны танки». Хорошо. В тыл едем, я, как обычно в таких случаях, сажусь на крыло у люка механика водителя. Беликов говорит: «Ты садись в башню, мало ли что». Он, может быть, и знал, какая там обстановка, но мне ничего не сказал. По дороге мы проехали несколько километров, поднялись на очередной пригорок, и вдруг я вижу, что впереди, метрах в пятистах, стоит поперек дороги танк и ведет огонь в сторону леса, что располагался слева. Черт возьми, что это? Я остановился. Справа от дороги какое-то строение, за которыми спрятались два или три танка. Этот танк, который вел огонь, на моих глазах загорелся. Я подбежал к танкам, что стояли за домом: «Ребята, что происходит?» У них уже и раненые есть, перевязывают друг друга. «Там „Тигры“ или самоходки какие-то». — «А что за танк на дороге сожгли?» — «А черт его знает». Я вернулся, встал на башню, в бинокль смотрю, увидел эти «Артштурмы» в лесу метрах в восьмистах. Иватулин потом рассказывал: «Бьют по нашему танку, а у меня командир взобрался на башню и рассматривает их в бинокль!» Мне же надо знать обстановку. Они прекратили стрелять. Чувствую, что я у них уже под прицелом, но они медлят стрелять. Что делать? «Жданов, как только Иватулин тронет, ты разворачивай пушку и веди огонь. А ты, Иватулин, разворачивайся и за это строение». Мы только развернулись, и они нам в борт влепили. Танк загорелся, все выскочили в правый, дальний от противника, кювет. Жданова нет. Я спрашиваю: «Жданов выскочил?» — «Выскочил». Начали его искать. В нашем кювете его не было. Переползли на другую сторону. Танк наш горит, снаряды в нем рвутся, правда, не детонируют. Начали обследовать кювет. Нашли его мертвым — одежда на нем полностью сгорела. Вернулись, я доложил командиру батальона, что машина сгорела, погиб Жданов. Пару дней мы простояли в лесу недалеко от того места, где сожгли нашу машину. У нас уже танка не было, и от бомбежки и артобстрелов, которые были довольно частыми, мы спасались под машиной командира роты Чугунова. Вдруг вдалеке показались, по-видимому, те самые три «Артштурма», что нас разбили, и стали двигаться по дороге в нашем направлении Ну, а у нас уже три или четыре танка к тому времени было. Две самоходки остались за возвышенностью, а одна пошла вперед. На ней еще было человек пятнадцать немецких десантников. Ей как врезали, так она и остановилась. Потом уже выяснилось, что болванка сорвала крышу рубки, а ее осколками искромсало весь десант и экипаж. Мы с Иватулиным пошли посмотреть, что с «Артшурмом». На броне лежат убитые, вокруг искромсанные валяются. Где половина трупа, где чего, ужасно… сверху мы всех мертвяков сбросили. Заглянул внутрь, там сидят мертвые немцы. Радиостанция работает. Я говорю: «Иватулин, давай в машину». Он залез, растолкал убитых немцев (неохота их было доставать), завел, и мы поехали к своим. Вот так мы добыли себе танк. А чуть раньше экипаж Чугунова захватил немецкую машину-амфибию. Плавать там негде было, так мы винт включим и на полном газу по пыльной дороге проскочим до ближайшего леса. За нами пылища, как будто колонна идет, и немцы начинают артобстрел. Комбат, правда, предупредил, что мы можем доиграться, ведь с огнем не шутят, но мы продолжали так развлекаться. В распоряжении нашего экипажа оказались эта амфибия и «Артштурм». Вечером пошел ливень. Приехал комбат, видимо, получив приказ выходить из окружения, в котором мы оказались. Я его спросил, что мне делать, ведь у меня амфибия и «Артштурм». «Ну тебя к черту с твоими фантазиями. Бросай все, садись на танк». Как же мы амфибию бросим? Мы по дороге гоняли, а поплавать так и не удалось, а очень хотелось, ведь мы же пацаны были. «Артштурм» бросили, надо было бы его сжечь, но мы второпях забыли. Танки вытянулись в колонну, а мы на машине влезли в ее середину. Они — стволы елочкой, и лупят в разные стороны из орудий. Как выстрелит — нас ослепит, мы ничего не видим. А тут еще лес начался, деревья от взрывов снарядов падают на дорогу. Думали, застрянем, но нет. У лодочки обе оси ведущие, нос приподнят, она раз, раз, прижимает дерево и перескакивает. Где-то на повороте танки размесили грязь, получилась трясина, в которою мы, ослепленные выстрелами, заскочили. У нас и тросик был, мы говорим: «Ребята, зацепите». — «Ну тебя к черту. Тут надо из окружения выходить. А ты со своим… » — «Жалко же бросать. Вытяните нас». Пока мы рядились, колонна тронулась. Задние танки наехали и раздавили нашу амфибию. Пришлось забираться на танк. Не удалось нам на амфибии поплавать. Вот за выход из окружения Чугунов и комбат получили Героев. Пришла разнарядка представить троих. Двоих нашли, кое-чего приписали, а третьего не смогли. Новый танк я получил вместе с экипажем. Иватулин просился взять его, но на танке уже был механик, и мне казалось неэтичным брать своего, хотя мы уже сдружились — все же вместе два танка поменяли: «При первом удобном случае возьму тебя». 10 октября пересекли границу с Германией. Взяли Шипен, пересекли железную дорогу Мемель — Тильзит и пошли на Тильзит. 11 октября я был ранен. В этот день я шел четвертым в составе головного дозора. В засаде у немцев была пушка и еще что-то. Я ее увидел, когда выскочил из танка, после того как она нам в правый борт врезала. Сначала я почувствовал, как что-то ударило по бедру, и увидел под собой пламя. Выскочил и тут только понял, что ранен — осколки попали в лодыжку и бедро. Отбежал в правый кювет. Со мной выскочил автоматчик, которого я посадил на место стрелка-радиста, отсутствовавшего в экипаже. Остальные спрятались в левом кювете. Смотрю, а передо мной, метрах в тридцати, немецкие окопы. Из одного окопа высовывается немец, видимо офицер, и стреляет в меня из пистолета. Я стреляю в ответ. Механику-водителю, Диме Спиридонову, кричу через дорогу, чтобы он мне перебросил гранату. Он мне перебросил. Я ее в немца кинул, но не попал — она разорвалась в нескольких метрах от окопа. Он тоже высовывается и в меня лимонку бросает, тоже не точно. Я думаю: «Да черт с тобой, сиди, стреляй». Автоматчик стянул мне сапог, перевязал. Поползли в сторону наших. Огонь ведут и наши, и немцы. Бьют минометы и шестиствольные минометы, наши «катюши» — грохот жуткий. Проползли метров двести, нашли водосточную трубу, залезли в нее и сидели — переждали этот трам-тарарам. Все, кто живой с этих четырех танков остался, — все там собрались. Когда затихло, поползли дальше. Мне тяжело, устал, больше не могу, я Диме говорю: «Ползи вперед, я сам как-нибудь». Он начал на меня орать: «Какой ты к черту офицер!» — «Ладно, не шуми, я ползу, ползу». Доползли до перекрестка. Надо пересечь дорогу. Он мне говорит: «Давай, командир, ползи первым». Пересек дорогу, он пополз, по нему уже из пулемета очередь дали, но обошлось. Следом автоматчик пополз, его ранило. Он обратно вернулся, кричит: «Танкисты, не бросайте меня. Меня ранило». Я говорю: «Дима, надо его выручать». — «А как мы его выручим?» — «Ты сам себя перевязывай, а мы пришлем ваших автоматчиков, как стемнеет. Сейчас мы не сможем тебе помочь». И мы поползли дальше. Доползли до расположения наших танков, автоматчикам сказали, чтобы они вытащили своего раненого. Меня на машину — и в госпиталь.  Пролежал я там два месяца. Я еще хромал, но поскольку госпиталь перебазировался, а я очень боялся потерять свою часть, пошел к начальнику и попросил меня выписать. Нас несколько человек легкораненых с первого корпуса выписали досрочно, и мы на перекладных поехали искать свою часть. В середине декабря я вернулся в свой батальон. А 13 января 1945 года началось наступление. Правда, я был в резерве бригады, и танка у меня не было. Где-то 18 января, ночью, я принял командование взводом третьего батальона, а к полудню мы вышли на исходные позиции. Я успел познакомиться только с офицерами: младшим лейтенантом Ляшенко и лейтенантом Левиным. Они меня спросили: «Как нам действовать?» — «Хрен его знает. Делайте, как я». Батальон развернулся и во главе с командиром Пожихиным пошел в атаку. Вскоре Левина подбили откуда-то слева. А так, по нам вроде никто и не стрелял, мы двигались, двигались… На одной канаве хватанули стволом орудия земли, хорошо, я заметил. Заехали за домик, прочистили пушку. Догнали боевые порядки бригады. А уже все перемешались. Наш командир батальона умчался куда-то вперед. Командовал нами командир соседнего батальона Удовиченко. Он мне говорит: «Вон слева, на высотке, мельница и домик. Проскочи туда, посмотри, что там, а то как бы по нам не ударили». Поехали. Оказалось, что перед высоткой противотанковый ров. Я его заметил метров за пять-семь, но ТПУ у меня было выключено, и я не успел предупредить механика, а он его заметил, когда был уже на краю. Он — по тормозам, танк застыл, но передняя часть перевесила, и наш танк клюнул вниз, воткнувшись орудием в землю. Вот так мы торчим задницей почти вертикально кверху. Я из люка высунулся. Смотрю, а из-за домика, что был метрах в тридцати от нас, высовывается фриц с фаустпатроном. Я из пистолета стреляю, не даю ему прицелиться. Он все же выстрелил, но граната разорвалась на бруствере рва, перед танком. Я говорю экипажу: «Выскакивайте, а то он нас зажарит». Все выскочили и дали деру. На мне были утепленные немецкие штаны на лямках, которые я обвязал вокруг пояса. Стал выбираться из люка, зацепился этим лямками и повис на них, как сосиска. Думаю: «Ну, все». А немец выскочил из-за дома и бежит с фаустпатроном к танку, видимо, решив, что все смотались. Я его из пистолета уложил. Он упал, я еще раз для острастки в него выстрелил. Дергался, дергался я на этих лямках, наконец, сорвался, упал в снег. Ребята мои сбежали, фактически меня бросив. А мне танк бросать нельзя, он практически исправный. Через некоторое время, слышу, заклацали траки. Экипаж привел два танка, на одном из них мой бывший механик Дима Спиридонов. Зацепили тросами наш танк, вытянули. Ствол забит глиной, зубья шестерни подъемного механизма начисто срезало. Догнали батальон, пристроились. Дело уже к ночи. Свернулись в колонну и пошли по шоссе, по которому отступали немцы. Давили обозы, людей, лошадей, машины. Я такого месива, как в ту ночь, больше нигде не видел. Когда утром мы посмотрели, у нас все борта, все крылья, все были ободраны. Утром отогнали танк в ремонт. Ремонтники прогрели ствол, выгребли землю, заменили сектор подъемного механизма, и уже днем я догнал бригаду. Как-то под вечер я заскочил в один дом. Заходим, а в одной огромной комнате пол на десять-пятнадцать сантиметров усыпан рейхсмарками. Посмотрели, ничего брать не стали и ушли. Как я после войны переживал, когда мы стояли возле Кенингсберга и оказалось, что эти деньги ходили наравне с советскими деньгами! Мы получали оклад советскими деньгами и два — рейхсмарками. Черт возьми, там же можно было мешки деньгами набить! Как-то раз ночью пришел к нам немец. Что-то лопочет, понятно только, что вроде он чех, но больше ничего не понимаем: «Давай говори по-русски». — «Русский нет». — «Тогда иди отсюда». Он уходит, возвращается с картонной коробкой. Оказывается, он шофер, у него крытая машина забита коробками с нерозданными новогодними подарками. Братва быстро раскусила, что к чему. Натаскали в танки по десятку таких коробок. В каждой коробке два десятка целлофановых пакетов, а в них вкусное печенье, круглый шоколад, шоколадные конфеты, мятные конфеты, в общем, каждый пакетик с килограмм. Потом и обедать никто не идет — наедятся шоколада да печенья, только чайку им надо. В районе Топиау мой танк опять сожгли. Надо было проскочить по высокой длинной насыпи, которая обстреливалась. Командир роты впереди, я за ним. За мной Левин, а за ним Ляшенко. Двигаемся. Я смотрю, у командира танка с трансмиссии слетает брезент. А у меня в командирский перископ затекла вода и замерзла, и он не вращается. Приводить его в порядок некогда было. Даже поесть не успели, только шоколадом подкрепились. Я встал на колени на свое сиденье и высунул голову, пытаясь рассмотреть, откуда же все-таки стреляют. Стояла типичная зимняя погода: небо было закрыто облаками, в воздухе висела легкая дымка изморози. Им-то нас, двигающихся по насыпи, хорошо видно на фоне неба, а они замаскировались в лесочке и с места, как на стрельбище, выбирают любую цель. Я увидел на фоне белого снега, как черная болванка промелькнула мимо меня. Я механику крикнул: «Давай быстрей, не задерживайся, по нам бьют». Я оглянулся посмотреть, не попал ли снаряд в Левина, а у меня из трансмиссии пламя хлещет. Экипажу приказал выскакивать на ходу по-одному. Я понимал, что если мы остановимся, то закупорим дорогу. Поэтому хотел спустить машину по насыпи вниз. По борту прошел к механику-водителю, стал ему показывать, что делать, а он не понимает. Проехали чуть вперед, и он остановился за разбитым танком. Видимо, кто-то уже пытался проскочить, и его сожгли. Механик-водитель кричит: «У нас аккумуляторы горят». — «Да у нас танк горит. Давай быстрей. Мы же закупорили дорогу». — «Не заводится». — «Ладно, вылезай». Спустились по насыпи вниз. Мы уже двигались обратно, когда я увидел, что по дороге несется Левин, не зная, что она закупорена. Я хотел его остановить, кричал, махал руками, но он высунулся из люка и смотрит вперед. Он наскочил на два танка, и, когда начал разворачиваться, его тоже сожгли. Он погиб и командир орудия. Ляшенко тогда уже не поехал. И уже бригада пошла в другом направлении. Потом мне опять дали взвод. А вскоре я принял танк командира батальона. Где-то в феврале 1945 года все наши танки побили, и нашу бригаду, да и корпус весь из боев вывели — не было танков. Потом из тех танков, что отремонтировали, собрали батальон и послали воевать на Земланский полуостров. Но я уже в этих боях не участвовал. МАРЬЕВСКИЙ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
 Перед войной я закончил десятилетку и пошел работать в паспортный стол милиции, куда меня взяли выписывать паспорта, поскольку обладал красивым почерком. В августе 1941 года меня послали в военкомат выписывать повестки призывникам. Мне было еще рановато в армию идти — только 17 лет исполнилось. Поздней осенью, уже снежок выпал, приносят мне список примерно из пятидесяти фамилий. Я читаю, а это все мои школьные, дворовые товарищи, с кем я мальчишкой бегал. Как же так? Все мои товарищи уходят в армию, а я здесь останусь? Нет! Я и себе выписываю повестку. Приношу к военкому, майору Дегтяреву, на подпись. Он дошел до моей повестки: «Ты что? Мы тебе здесь звание присвоим, и будешь у нас работать под моим началом». — «Товарищ майор, я хочу с ребятами вместе идти». — «Хочешь?» — «Мои братья там, и я пойду». — «Ну, что же, иди». Вот так я был призван в армию. Свои нехитрые пожитки я завернул в кусок полотна, в углы которого завязывались картофелины, чтобы можно было сделать узел, когда их сложишь вместе, — рюкзаков и сумок тогда не было. На станции нам подали пассажирский вагон, который должен был отвезти призывников на пересыльный пункт в Горький. Надо сказать, что я до армии стеснялся при отце курить, а что такое вино — вообще не знал. Перед отправкой поезда отец подошел к вагону и принес нам на дорогу целый ящик четвертушек водки. Я распрощался с ним, первый раз попросив у него разрешения закурить. Пересыльный пункт был забит призывниками. В первую же ночь кто-то из-под головы вытащил мой мешок с сухарями и прочими принадлежностями. Встал я голодный, ничего жрать не дают. Хорошо, свои земляки поделились чем могли. На пересыльном пункте прошли медкомиссию: руки, ноги есть, глаза есть — годен. После этого повезли нас под Казань, в район двух больших озер — Малые и Большие Кабаны, на формирование пехотной части. Там уже были заготовлены длинные-предлинные землянки для нашего брата. Командиры встретили нас очень хорошо. Все были кадровые — хорошие мужики. Помню, командир роты — лейтенант Илларионов, высокий парень. Командир взвода — лейтенант, забыл фамилию, хороший пожилой мужчина. Дней через двадцать принимаем присягу. Как-то раз меня направили в караул на пост около склада. Склад — длинный деревянный ангар: на первом этаже — продовольственный склад, на втором — вещевой. Стою на посту с винтовкой с примкнутым штыком. Уже зима, снег лежит. Слышу, кто-то идет. Окликаю: «Стой! Кто идет!» — «Начальник караула старший сержант Наумкин». — «Пароль». Он дает пароль. Я даю отзыв. Подходит, а с ним подъезжают сани с двумя лошадьми в упряжке. Он говорит: «Ну как, не замерз?» — «Да, холодно». На мне что — шинелька да валеночки, которые я сдавал своему сменщику, когда возвращался с поста. Старший сержант берет у меня винтовку, отмыкает штык, подходит к двери склада и срывает накладку, ушки которой были схвачены висячим замком. По уставу я не должен был давать этого делать, но мне всего семнадцать лет, а он, как ни говори, начальник караула. Погрузил на подводу продукты, полушубки, подготовленные для солдат, и уехал. А я остался на посту. Отстоял я положенные четыре часа, сменился. На следующий день мы сдали караул, пришли в подразделение. Наумкин, который был помкомвзвода, говорит: «Зайди ко мне в каптерку». Я прихожу: «На, поешь сухариков, сала шпик», — со склада наворовал. А кладовщики, когда пришли на работу, подняли шум. Нас особый отдел быстро вычислил, я не отпирался, и без всякого трибунала приговорил к расстрелу. Дошло дело до командира полка, подполковника Бубнова, ездившего, как сейчас помню, верхом на коричневой, чуть ли не красной, лошади. Дело было за несколько дней до отправки нашей части на фронт, и, видимо, он договорился с работниками НКВД заменить нам расстрел направлением в штрафную роту. Вот так мы попадаем с Наумкиным в штрафники. Поехали на фронт вместе со всеми, только штрафники — которых набралось порядочно, ехали на фронт в отдельном вагоне. Я не знаю, как получилось… Я только помню, что перед первой атакой нам выдали по десять патронов на винтовку. А потом я стою, затвором щелкаю, стреляю, а у меня уже нет патронов. Вдруг какой-то солдат хлопает меня по плечу: «Хватит, немец уже убежал». Вокруг трупы наших штрафников, а я живой. Думаю: «Как же так?» Ничего не понимаю, как будто помешался. После боя написали представление, сняли с меня судимость и даже медалью «За отвагу» наградили, отправив к своим в часть. Что стало с Наумкиным, я не знаю. Еще некоторое время я повоевал в своей, 332-й дивизии. Ну, как повоевал? В основном готовились к наступлению. Помню, за ночь совершили шестидесятикилометровый марш — командиры на лошадях, мы падаем в снег, нас поднимают. Мы знали, что в наступление пойдем после артподготовки, а пока артиллерию по снегу подтянули, прошла, наверное, неделя, а может, и больше. Мы шалашей наделали, спать-то негде было. Я всю войну ни разу не спал в помещении! Честно говорю. Вот наломаем лапника, на снег настелим, шалашик соорудим. Мы с собой еще железные печки носили. В шалаш ее поставишь, трубу наружу, шинелью укрылся и спишь. Но нам не давали отдыхать — все время занятия по стрельбе, по тактике, чтобы мы были готовы к бою. Как-то раз нас построили. Смотрим, рядом с нашим взводным стоит офицер в танковой форме, в танкошлеме: «Трактористы и шофера — шаг вперед!» До войны мой дядя, работавший шофером и преподававший автодело, немного учил меня вождению грузовика. Я говорю, что, мол, не шофер, только дядя меня учил ездить на машине. «Ездил на машине?» — «Километров пять, может, проехал». — «Выходи». Вот так я попал в танковые войска механиком-водителем. Прошли по лесу километра два в расположение части — 1-го танкового корпуса. «Тридцатьчетверок» еще не было, только Т-60, Т-70, БТ-7. Опытные механики-водители начали нас обучать вождению, технике. Объяснили, что в бой надо идти налегке — в одной гимнастерке, чтобы успеть выскочить, если подобьют. Эти железные гробы пробивались пулей и горели, как спички, — двигатель-то бензиновый. Поэтому наука покидать танк была одной из самых важных. Ну, а потом бой. Подо мной сожгли четыре машины, но сам я не был ранен. Первый раз выскочил из машины и — как заяц, в сторону, пока баки рваться не начали. Гибли в основном командиры, те, кто в башне сидел. Я уже потом дорос до командира роты Т-34, даже исполнял обязанности командира батальона, но в бою всегда сам садился за рычаги. В башню никогда не садился — я уже был ученый. Башню чаще пробивали, и шансов уцелеть находящимся в ней мало. Может, поэтому и жив остался…  А потом из ремонта пришли Т-34. Я хоть и сержант, но образование-то у меня высокое — десять классов, и меня поставили командиром танка. Тут уже я себя королем почувствовал. Правда, видимость из него все равно плохая — только земля-небо мелькают, но пушка мощная. Командир орудия тебе в спину ногой толкнет — я сразу делаю короткую, и он стреляет. Неплохо получалось. Летом сорок второго мне присвоили звание младшего лейтенанта и отправили в Омск. Там, в эвакуированном из Камышина танковом училище, собрали таких же, как я, младших лейтенантиков, которым на передовой присвоили звание. Звание-то есть, а командовать мы не умеем. Где-то месяца три занимались, обучались тактике ведения боя, стреляли, ходили на завод №174, участвовали в сборке машин. Надо сказать, что на этом заводе конвейерной сборки не было, все осуществлялось вручную. В конце сорок второго года получили танки и отправились на фронт, под Сталинград. В моем экипаже механиком-водителем был Миша Миронов, 1922 года рождения, работавший до войны трактористом. Но я уже говорил, что в бою всегда сам за рычаги садился, а его рядом сажал, на место радиста. Коля Жибреев, с 1924 года — заряжающий. Ванюша Печорский, сибирский охотник, вот стрелял так стрелял! Я так не мог. Если не с первого, то со второго выстрела обязательно попадет в цель. Я говорю: «Ваня, башня твоя». Взаимозаменяемость в экипаже была отработана. Все могли вести машину и стрелять. Корпусом уже командовал генерал-майор Панков Михаил Федорович, а моей 17-й гвардейской танковой бригадой — подполковник Шульгин. Тот в танк никогда не садился. В любом бою носился на своем «Виллисе» между танками с палкой в руке. Не дай бог остановить машину во время боя, тут же стук по броне у люка механика-водителя: «Открой люк!» Только высунулся — он палкой по голове. Со мной один раз тоже так было. Танк попал в воронку, а я не успел переключить передачу, и он заглох. Слышу стук палки по броне. Я танкошлем с головы сорвал, на коленку натянул и высунул в люк. Пару раз он меня ударил. Я коленку убрал, быстрее на стартер нажал, передачу включил и пошел. Прошло много времени, я уже забыл про этот случай, вдруг меня вызывает, уже полковник, Шульгин: «Ты где научился командиров обманывать? Ты почему меня обманул?» — «Когда, товарищ полковник?» — «Мне сказали, что ты надел танкошлем на коленку. Ты почему головой не стал вылазить из люка?» — «Товарищ полковник, я думаю, что плох тот командир, который голову подставит». — «Ну, твою мать, молодец! Иди». В Орловской наступательной операции я уже командовал ротой. В одном из боев ранило нашего комбата, капитана Починка, и меня назначили исполняющим обязанности командира батальона. Напальником штаба был капитан Петров, как и я, из бывших штрафников. Он воевал в авиации, а после штрафного батальона попал в танковые войска: «Я в авиацию больше не пойду. Я лучше на земле сгорю, чем в воздухе». Перед наступлением нам раздали карты. Сели мы с Петровым, я говорю: «Коля, вот здесь наша гибель». — «Я тоже так думаю». А у нас в батальоне заряжающим был некто Спирка, из московских урок. Отъявленный бандит. Фамилия у него была Спиридонов, а звали — Спирка. Знаменит в батальоне он был тем, что при любой возможности, взяв еще одного-двух человек, таких же отчаянных, как и он, ходил в тыл к немцам за трофеями — жратвой и выпивкой. Я говорю: «Слушай, а ведь Спирка, наверное, уже ходил к немцам в тыл. Давай его спросим». Послали за Спиркой: «Спиря». — «Што?» У него вместо выбитых зубов стояли золотые, и он немножко шепелявил. «Ходил к немцам?» — «А что такое?» — «Ты где проходил?» — «По болотине, там немцев нет». — «Глубоко?» — «Да, по яйца». — «А дно какое?» — «Мы не застревали, командир. Могу показать». Мы с капитаном Петровым взяли автоматы и пошли. Прошлись по болоту, прощупали дно. Немцев действительно рядом не было. Вернулись, переоделись в чистое и поехали в штаб бригады, докладывать. В штабе нас принял полковник Шульгин, а у него находился командующий корпусом генерал Панков. В большой светлой комнате стоит стол, на котором разложена карта, указка лежит. За столом сидит полковник Шульгин, а у окна стоит генерал Панков. Зашли. Полковник Шульгин, обращаясь ко мне, говорит: «Ну что, цыганская рожа? — я был черный, это сейчас вся голова белая. — Что придумали с Петровым?» В этот момент вошел Рокоссовский, но, поскольку мы стояли спиной к двери, мы его не увидели. Увидел его только генерал Панков. Я говорю: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к генерал-майору. Мы этим путем не пойдем». Тут слышу голос из-за спины: «Почему не пойдете?» Рокоссовский. Вскочили: «Товарищ командующий, верная гибель и нам, и нашей технике». — «Не пойдете — расстреляем». Спокойно так говорит. «Товарищ командующий, мы ходили в разведку, считаем, что танки пройдут через вот это болото». Генерал Панков говорит: «Да вы в этом болоте все машины утопите». — «Не утопим. Дно твердое, но мы еще бревен навалим и по одной машине, чтобы немцы не прочухали, переправимся». Рокоссовский говорит: «Действуйте». Вот так мы весь батальон перетащили через болото. Первый оборонительный рубеж благодаря этому взяли без потерь, ну а потом немцы оправились. Так что к Орлу от тридцати трех машин батальона осталось четыре. За эту операцию я был награжден орденом Александра Невского. ЖЕЛЕЗНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
 Когда началась война, мне было семнадцать с половиной лет. Я только что закончил школу. Мы надеялись, что война продлится два-три месяца, враг будет разбит и победа будет за нами. Но враг оказался значительно сильнее и коварнее, чем мы полагали, и, когда немцы в начале июля взяли Минск, отец мне сказал: «Сынок, пора тебе идти работать». Я пошел на военный завод, который выпускал приборы управления зенитным огнем (ПУАЗО), учеником слесаря. Через три месяца, выполнив экзаменационное задание, я уже стал слесарем четвертого разряда[10]. В начале августа наша семья получила похоронку на моего старшего брата Михаила, который погиб под Смоленском. Для нашей семьи это была такая потеря, вы себе и представить не можете! В октябре, когда немцы подходили к Москве, было принято решение эвакуировать наш завод в Саратов, и стал я собираться в дорогу. Пошили мне из брезента вещмешок. Рюкзаков тогда мало было, стоили они дорого, а зарабатывал я немного. Отправка эшелона была назначена на 22 октября. А 15-го, когда началась эвакуация правительства страны, Москву охватила паника. Я видел, как рабочие завода «Серп и Молот» вышли на площадь Ильича, от которой начинался знаменитый Владимирский тракт, а ныне шоссе Энтузиастов. Именно по этой дороге, ведущей на восток, бросая на произвол судьбы свои предприятия и рабочих, бежали из Москвы всякие чиновники. Бежали с домочадцами и со всем скарбом, погрузившись на служебные грузовики. Возмущению не было предела. Как же так?! Начальство бежит, а нас тут бросает без руководства?! Рабочие стали останавливать машины, вышвыривать оттуда этих чиновников и их визжащие семьи, имущество, которое тут же разворовывалось. Очень быстро эти волнения распространились по всему городу. Стали грабить магазины. Я видел, как обезумевшая толпа разграбила трехэтажный универмаг на площади Ильича. Все расхватали и разнесли по домам. В это время моему однокласснику Жорке Пророкову пришла повестка — он был немного постарше, ему уже исполнилось восемнадцать лет. Нам, друзьям Жорки, хотелось проводить его «по-человечески», но водки было не достать, и Жоркин отец подсказал нам. «Возьмите, — говорит, — политуру!» Политура — это бесцветный мебельный лак, сделанный на спиртовой основе, расфасованный в полулитровые бутылки. В каждую бутылку нужно засыпать примерно две столовые ложки соли, затолкать туда вату и хорошенько потрясти, чтобы соль растворилась. Соль высаживала лак, который прилипал к вате, а спирт оставался. И вот на Жоркиных проводах мы пили этот спирт и, видимо, перебрали. Отравился я так, что по всему телу выступила красная сыпь. Именно сыпь-то меня и спасла! По Москве прокатилась волна арестов. Многих моих товарищей, кто принимал участие в грабеже универмага на площади Ильича, забрали. За мной тоже приходили, но, увидев, что я болен, не тронули. Мои родители сказали, что я отравился на проводах своего товарища и в день грабежа болел, находясь дома. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло! Сыпь прошла довольно быстро, и 22 октября к 16 часам я пришел на завод, а в 20 часов наш эшелон отбыл в Саратов. Позже, в декабре сорок первого, я прочел в столичной газете статью о судебном процессе над мародерами. Моих товарищей судили и каждому дали по десять лет лагерей, которые потом заменили на год штрафбата. Мой друг, осужденный по этому делу, Саша Прыткин, чудом выжил, вернувшись с фронта инвалидом. После войны он пожил совсем немного, где-то лет десять, и умер. Ранение у него было очень тяжелое: была перебита рука, кости не срослись, и она висела на мышцах. По прибытии в город Саратов мы быстро восстановили наш 205-й завод, который разместился в здании сельскохозяйственного института. Уже на пятый день после прибытия на саратовский вокзал мы приступили к сборке приборов! Работали мы по 14 — 16 часов в сутки без выходных. С февраля 1942 года мы перенесли койки прямо в рабочие цеха. Бывало, поспишь часов пять, тебя будят, встаешь и идешь работать. Мы жили и работали с мыслью о том, чтобы дать фронту все необходимое и как можно быстрее. Это не лозунг и не пропаганда! Мы действительно так жили, и хотя сейчас это кажется невероятным, но человек может ко многому привыкнуть и многое вынести. Кормили нас в столовой. Все продукты выдавались строго по карточкам. Если кто терял карточки — это было такое горе! Конечно, таких в столовой кормили бесплатно, но только тем, что оставалось! А ведь иногда и ничего не оставалось! В любом случае этого было совершенно недостаточно, чтобы выжить и сохранить силы для работы на заводе. Мыло тоже было по карточкам. Если потерял карточку и нет у тебя мыла — обходись как хочешь. Хоть целый месяц не мойся. В мае месяце я ребятам, с которыми работал, говорю: «Давайте пойдем на фронт. Хватит вшей тут кормить!» Вот так все вместе и пошли в военкомат. Военком, полковник Смирнов, выслушал нас и сказал: «Вы рабочие оборонного завода и призыву не подлежите. Если ваше заводское начальство разрешит, тогда приходите». Кое-как нам удалось уговорить директора завода отпустить нас на фронт, и вскоре нас призвали. Сначала я попал на ускоренные курсы подготовки пехотных сержантов. Обучение продолжалось полтора месяца, после чего нам присвоили звание сержанта и привинтили в петлицы по два треугольника или, как их называли, «сикелька». В день выпуска нас построили на плацу. Начальник курсов зачитал с трибуны приказ о присвоении нам звания, потом сошел с трибуны и произнес: «Смир-рно! Слушай мою команду! Кто имеет высшее или неоконченное высшее образование — десять шагов вперед! Кто имеет среднее техническое или неоконченное среднее техническое образование — пять шагов вперед! Кто закончил десять классов — три шага вперед! Шаго-о-м марш!» Все разошлись, кто сделал три, кто пять, а кто и десять шагов вперед. Но нас было не так уж и много. В то время образование десять классов считалось очень высоким, большинство ребят имело по четыре-семь классов образования. Многие после семи классов шли либо в техникумы, либо на заводы, либо в ремесленные училища, откуда через шесть месяцев они выходили квалифицированными рабочими. Построили нас в колонны и повели к военкомату. Там стояли наши «покупатели»: офицер-танкист, офицер из военно-политического училища и офицер-летчик. У всех офицеров по четыре «шпалы» в петлицах — полковники. Сначала они отбирали по желанию. Один мой приятель говорит: «Ребята, айда в танкисты! Почетно же! Едешь, вся страна под тобой! А ты — на коне железном!» Действительно заманчиво. И только мы направились к офицеру-танкисту, слышу, окликнул меня офицер из ВПУ. Я подхожу, рапортую, так, мол, и так, сержант Железнов по вашему приказанию явился. Он мне говорит: «А не хотите ли, товарищ сержант, пойти в военно-политическое училище?» — «Нет, не хочу, — отвечаю я, — я уже решил идти в танкисты». Он говорит: «Смотри — пожалеешь. Будет тебе потом несладко. Трудная у танкиста служба. Пошли в политработники! Окончишь училище — станешь политруком роты, а если проявишь способности, то и до батальонного комиссара дорастешь!» Но я не поддался на его уговоры и 25 июня 1942 года был зачислен в 1-е Саратовское танковое училище. Около месяца мы обучались на английских «Матильдах» и канадских «Валентайнах». Надо сказать, что «Валентайн» — очень удачная машина. Пушка мощная, двигатель тихий, сам танк низенький, буквально в рост человека! Я потом расскажу, как в одном из боев два «Валентайна» сожгли три «Тигра». А вот «Матильда» — это просто огромная мишень! Броня у нее была толстая, а вот пушка — всего 42 мм, да еще с допотопным прицелом. Танк был неуклюжий, неманевренный, два слабых девяностосильных дизеля типа «Лейланд» (Layland) едва-едва разгоняли танк до 25 км/ч по шоссейной дороге, а по проселку — и того меньше! Но уже в конце июля, когда наше училище получило танки Т-34, нам поменяли программу, и мы стали изучать «тридцатьчетверку». В училище мы проходили курс обучения командиров танка — командиров взводов. Прежде всего изучали материальную часть: орудие, пулемет, радиостанцию, трансмиссию, ходовую и двигатель. Если о башне, корпусе и ходовой мы уже имели некоторое представление, то, скажем, о танковом дизеле мы ничего не знали. Кроме этого, мы изучали различные уставы: караульной службы, полевой устав и так далее. На полигоне отрабатывались приемы танкового боя в составе взвода и роты, взаимодействие между танками. Конечно же, учили нас водить танк, стрелять из пушки и пулеметов. Надо отметить, что изучению немецких танков времени не отводилось, но в коридорах по всему танковому училищу были развешаны большие плакаты, на которых были показаны немецкие танки, давались их тактико-технические характеристики, показывались уязвимые места. Среди изображенных машин были T-III, T-IV, T-V «Пантера», T-VI «Тигр», самоходки «Фердинанд», «Артштурм». Так что мы волей-неволей впитывали эти знания. Распорядок в училище был примерно такой: с 9.00 до 14.00 шли занятия. Затем до 16.00 — обед и личное время. С 16.00 и до 21.00 опять занятия. По училищу мы ходили в военной форме, причем за неряшливый вид можно было легко схлопотать наряд вне очереди. Подворотнички всегда должны были быть белыми, все пуговицы пришиты, никаких скидок на военное время не было. Дисциплина была строгая, и, несмотря на равенство воинских званий, панибратство с командиром отделения не допускалось. Всем, кто закончил училище с отличием, в том числе и мне, предложили остаться еще на три месяца, пройти курс политической подготовки, после которого на фронте можно было занять должность заместителя командира батальона по политической части. Я не стал отказываться. Как раз в то время вышел приказ об упразднении института военных комиссаров (приказ вышел 9 октября 1942 года). До этого времени все политработники имели звания «младший политрук», «политрук», «батальонный комиссар» и т. д. Теперь их всех стали переаттестовывать и присуждать обычные воинские звания. Меня назначили командиром взвода 7-й курсантской роты 2-го танкового батальона. Мне тогда шел девятнадцатый год. Мальчишка! А рядом за партами сидели взрослые мужики с двумя-тремя «кубиками», и даже со «шпалами»![11] Они мне по возрасту годились в отцы! Помню, однажды я был дежурным по батальону, прихожу в казарму, а во взводе спят только три человека из сорока двух. Я у дневального спрашиваю: «Где остальные?» Оказалось, что тридцать девять человек в самоволке. Все по бабам пошли! Мужья на фронте, а эти — к их женам. По завершении учебы нас отправили в Горький получать танки, выпускавшиеся заводом «Красное Сормово». Квартировались мы в Болохне, где располагался 3-й запасной учебный танковый полк. Здесь мы получили личный состав и стали заниматься боевой подготовкой, так называемым сколачиванием взводов и рот. Сколачивание проходило на полигоне, где экипажи отрабатывали такие задачи, как наступление взвода, взвод в обороне, взвод на марше. И то же самое, но уже в составе роты. После завершения сколачивания были практические стрельбы из танков. При сколачивании экипажей я, как командир взвода, должен был позаботиться о том, чтобы члены экипажей танков могли друг друга заменять. Старался, чтобы каждый член экипажа в случае необходимости мог вести машину и стрелять из пушки и пулеметов. Такое сколачивание позволяло добиваться от каждого члена экипажа четкого знания своих обязанностей, а от командиров танков и взводов — своего места на поле боя и управляемости. Ведь управление — это неотъемлемая часть боя. Командир взвода наблюдает поле боя и дает команды командирам танков своего взвода на открытие огня по цели или на передвижение. Но чаще бывало так, что времени отдавать команды нет. Ибо если будешь чрезмерно увлекаться командованием другими, то свою смерть прозеваешь. Тут все зависит от экипажей танков взвода, которые должны действовать самостоятельно. Должен сказать, что сколачивание проходило на учебных машинах. А когда нас отправляли на фронт, нам выдали совершенно новые танки. Казалось бы, танки были те же самые — «тридцатьчетверки», но это только на первый, дилетантский, взгляд. Каждая машина, каждый танк, каждая танковая пушка, каждый двигатель имели свои уникальные особенности. Их нельзя узнать заранее, их можно выявить только в процессе повседневной эксплуатации. И в итоге на фронте мы оказались на незнакомых машинах. Командир не знает, какой бой у его пушки. Механик не знает, что может и что не может его дизель. Конечно, на заводах орудия танков пристреливали и проводили пятидесятикилометровый пробег, но этого было совершенно недостаточно. Разумеется, мы стремились узнать свои машины получше до боя и для этого использовали любую возможность. Весной 1943 года мы погрузились в эшелон, который вскоре прибыл под Москву. Здесь формировалась 4-я танковая армия, в состав которой входил 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, в котором я прошел всю войну. Летом 1943 года армия сосредоточилась юго-западней Сухиничей. Вот тут я принял свой первый бой. Первый бой — он самый страшный. Меня иногда спрашивают: «Вы боялись?» Я скрывать не буду — я боялся. Страх появлялся перед атакой, когда включаешь переговорное устройство и ждешь команду: «Вперед!!!» Одному богу известно, что ждет тебя через пять-десять минут. Попадут в тебя или не попадут. Сейчас ты молодой, здоровый, и тебе хочется жить, а надо идти в атаку, где через несколько минут тебя может не стать! Нет, трусить, конечно, мы не трусили. Но каждый из нас боялся. А в атаке включалась какая-то неуловимая дополнительная сила, которая руководила тобой. Ты уже не человек, и по-человечески ни рассуждать, ни мыслить уже не можешь. Может быть, это-то и спасало… Где-то вечером 25 июля нас вывели на исходный рубеж. Задача, которую поставил командир бригады, была форсировать реку Орс. Мне довелось воевать в 63-й бригаде, которая в этот момент была во втором эшелоне. Первый эшелон наступления составляла 62-я танковая и 30-я мотострелковая бригады. Форсировав реку Орс, они уперлись в немецкую оборону на высоте, кажется, 212, которую прорвать не смогли. Тогда командир корпуса дал приказ нашей бригаде прорвать оборону и, двигаясь в южном направлении, овладеть Борисовом, затем Масальским. Однако инженерная разведка была проведена плохо, и при форсировании реки Нугрь танки застряли — пойма была болотистая, а противоположный берег представлял собой крутую стенку. Так что первый бой у нас получился неудачный, атака захлебнулась. Нас перебросили на другой участок фронта, вот там мы действовали более удачно. Немцы оборонялись на окраине деревни, где у них были и противотанковые орудия, и закопанные танки. В этом бою я уничтожил две пушки и закопанный T-III — по нему два раза выстрелил из орудия, и он замолчал. Ну а две пушки, что мы раздавили, — это не моя заслуга, а механика-водителя. Я успел только по ТПУ скомандовать: «Миша, влево! Пушка!» А когда по станине проехали, рядом, где-то в десяти метрах, стояла еще одна: «И другую дави, а то развернется и по корме нам даст!» Пехоты каждый из нас набил много. Когда мы выскочили на окраину, гляжу — через поле от нас удирает группа немцев, человек сто пятьдесят. Я рванул за ними и стал бить из пулемета — один падает, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. Конечно, не я один стрелял — рота прорвалась, да и наша пехота тоже стреляла. Кто знает, я ли убил или кто другой, но, думаю, в этом бою человек двадцать пять я положил. За этот бой я был награжден орденом Красной Звезды. Конечно, и мы понесли потери. В этом бою наш батальон, а это двадцать один танк, потерял пять-семь. Ты спрашиваешь, как ставились задачи на наступление? Командир роты ставил командирам взводов задачу двигаться от одного ориентира до другого в направлении действия роты. А вот как пройти это расстояние и остаться живым — это моя задача. Приказы командира роты во время боя поступали по радио: «21-й, 21-й, измени направление! Влево, азимут 200, немецкое орудие». Значит, ты разворачивайся, потому что оно может тебе в бок садануть. Пошли дальше и с боями дошли до станции Льгов. По существу, мы уже выдохлись — у нас не осталось танков для дальнейшего наступления. Выбили у нас танки, выбили пехоту. Потери были значительные. В ротах осталось по одному-два танка. Бригада, по штату имевшая шестьдесят танков, на конец операции насчитывала не больше двенадцати. Эти танки вместе с экипажами у нас забрали и передали 197-й танковой бригаде. В ходе войны это была распространенная практика, когда оставшиеся в корпусе танки передавали одной бригаде, которая продолжала воевать, тогда как две другие отводились на переформирование. После завершения Орловской наступательной операции нас отвели на формирование. Опять получили технику, экипажи, и в феврале-марте 1944 года армия участвовала в Проскурово-Черновицкой наступательной операции. Вот тут произошел бой, о котором я хотел бы рассказать. Я в нем не участвовал, поскольку был во втором эшелоне, но наблюдал за его ходом. Произошел он 23 или 24 марта 1944 года в районе города Скалат. Мы двигались по дороге в направлении Каменец-Подольского, когда головная походная застава из трех танков Т-34 была уничтожена огнем трех «Тигров», стоявших на окраине деревни, находившейся на небольшой возвышенности. Пользуясь тем, что у нас 76-мм пушки, которые в лоб могут взять их броню только с пятисот метров, они стояли на открытом месте. А попробуй подойти? Он тебя сожжет за 1200 — 1500 метров! Наглые были! По существу, пока 85-мм пушки не было, мы, как зайцы, от «Тигров» бегали и искали возможность как бы так вывернуться и ему в борт влепить. Тяжело было. Если ты видишь, что на расстоянии 800 — 1000 метров стоит «Тигр» и начинает тебя «крестить», то, пока водит стволом горизонтально, ты еще можешь сидеть в танке, как только начал водить вертикально — лучше выпрыгивай! Сгоришь! Со мной такого не было, а вот ребята выпрыгивали. Ну а когда появился Т-34-85, тут уже можно было выходить один на один. Так вот, справа от дороги росли кусты, но недостаточно высокие, чтобы скрыть Т-34. И тут командир бригады, полковник Фомичев, принял правильное решение. Он был очень способным офицером, и его не случайно звали «батей». Он направил два танка «Валентайн» из нашего 7-го мотоциклетного батальона, которые, прикрываясь кустарником, подобрались к «Тиграм» на расстояние 300 — 400 метров. Выстрелами в борт сожгли ближайшие два танка, а потом расправились с третьим. Четвертый танк стоял на склоне возвышенности и не видел, что происходит у него слева. Потом он куда-то уполз. Таким образом, левый фланг обороны немцев был оголен, и мы по кустарнику устремились в эту брешь. Нас встретила противотанковая артиллерия. Между кустарниками и ее позициями было всего 100 — 200 метров, которые танк пролетает за 25 — 30 секунд. Ведь в атаку танк идет на большой скорости, галсами, постоянно меняя направление движения. Прямо поехал — считай, в потусторонний мир направился. Артиллеристы успели сделать несколько выстрелов, после чего пушки были раздавлены. Немецкая пехота убежала. Это только в кино пехота пропускает танки над собой, а в реальности, как только появились танки и вот-вот прорвут оборону, пехотинцы убегают по отсечным траншеям. Задержавшись у этой деревни на три часа, мы продолжили наступление. В Каменец-Подольский вошли мы вечером 25 марта 1944 года. На его окраине мы потеряли два танка, сожженные батареей зенитных пушек. Экипажи сгорели. Я видел, как их хоронили — от взрослого человека остается мумия размером с двенадцатилетнего ребенка. Цвет кожи лица такой красновато-синевато-коричневый… Страшно смотреть и очень тяжело вспоминать… Разведка донесла, что на окраине города стоят немецкие машины. Пошли посмотреть. Там столько машин стояло! Наверное, около трех, если не больше, тысяч! Видимо, это были тылы Проскуровской группировки. Машины были набиты колбасой, ветчиной, консервами, шоколадом, сыром. Алкоголя тоже было предостаточно — французский коньяк, итальянское вино. Особенно запомнился «Амаретто». Вкус этого ликера я вспоминаю как одно из удовольствий войны. Кроме этого, нам удалось захватить несколько исправных немецких танков, но мы их не использовали — опасно. Русские — это полуазиаты. Да еще если учесть, что среди этих русских были и казахи, и таджики, и узбеки, и татары, и мордва. Влезешь в немецкий танк, а по тебе шарахнут из всех пушек — и сгоришь не за понюх табака. Я, например, держался подальше от немецкой техники. Город Каменец-Подольский находился в глубоком немецком тылу, примерно в 100 — 150 км от линии фронта. Проскуровская группировка немцев прорывалась к Днестру, и город, занятый нашей бригадой, располагался на ее пути. Мы не ожидали такого сильного удара, который последовал 29 или 30 марта. В этот день нам приказали выдвинуться в пригород, в село Должок. Подойдя к крайним домам, я увидел, что на нас движется порядка сорока танков и самоходок противника. Я без выстрела стал пятиться назад. Шансов не было — один выстрел, и ты труп. На задней передаче мы отошли практически до берега реки Смотрич, где за кустами я поставил свой танк. По существу, видна была только его башня. Рядом заняла оборону пехота. Один из наших танков расположился левее. Подошедшая немецкая самоходка выстрелила по нему. Болванка, срикошетировав от брони, полетела в город. Самой самоходки я не видел и выстрелил на вспышку. Самоходка загорелась. Загорелась, и слава богу! Больше ни одного танка не появилось, но немецкая пехота продолжала наступление. Шла она в две цепи, человек по пятьдесят-шестьдесят, стреляя «от пуза» из автоматов. Я давай их поливать из пулемета. Они залегли. Тогда я из орудия произвел десять-двенадцать выстрелов. Человек пятнадцать-двадцать вскочило и побежало, а остальные остались лежать — это их проблемы. На этом все стихло. Я пехоту ту, что у меня была на танке, отделение из семи человек, заставил окопаться вокруг танка, боясь, что ночью немцы могут забросать танк гранатами. Все обошлось, ночь пережили спокойно. Больше немцы не атаковали, видимо, обошли город стороной. Вскоре нас вновь вывели на отдых и пополнение.  Вот ты спрашиваешь, как взаимодействовали с пехотой? Пехота сидела на броне. Связь держали с командиром взвода, который сидит у тебя на танке. Ты — взводный, и он — взводный. Но я главней! Я его везу, а не он меня. Я командую ему: «Ты поставь охранение вот там и там, чтобы не подползли и не пальнули из фаустпатрона. А то сожгут танк, и все — мне капут и тебе капут». Пехота берегла танки, ведь им без нас ой как не сладко приходилось! При обстреле или преодолении обороны противника она спешивалась. Правда, некоторые оставались на танке. За башней спрячется — и жив-здоров. Я уже говорил, что танковая атака проходила на больших скоростях. Ты, как заяц, по полю виляешь, чтобы в тебя не попали! И не дай бог под гусеницу попадет пехотинец и ты его раздавишь! Это ЧП! Конечно, танки отрывались от пехоты. Это в кино показывают: идут танки, за ними пехота, но это картина, а в жизни только вот так! Только тогда ты останешься жив. Следующая операция, в которой я участвовал, — Львовско-Сандомирская, наступательная. В ней я уже воевал на Т-34-85. Их в то время было еще мало, и в моем взводе была только одна такая машина, которую я, как командир, взял себе. После ввода корпуса в прорыв мы двигались в общей колонне в направлении на Львов, не встречая сопротивления. Когда освободили город Золочев, командир корпуса сменил 61-ю бригаду, двигавшуюся в передовом отряде, на нашу, 63-ю бригаду. Командир бригады собрал нас и говорит: «Взвод лейтенанта Крюкова пойдет в головном дозоре, взвод лейтенанта Полигенького — в боевом охранении справа, а Железнова — слева». Мне придали взвод автоматчиков, два орудия ЗИС-3, которые мы прицепили к танкам и отправили в боковой дозор. Автоматчиков и артиллеристов я посадил на танки. Вперед я послал мотоциклистов, а взвод и машины с боеприпасами шли несколько сзади. Так мы двигались параллельно основным силам бригады километрах в трех от нее по полевой дороге, держа связь с командиром батальона по рации. Мы отошли от Золочева километров двенадцать, когда при подходе к небольшому населенному пункту я заметил впереди, примерно в полутора километрах, клубы пыли. Немедленно я дал команду остановиться и занять оборону на опушке леса, примерно в четырехстах метрах от населенного пункта. Разведчики, что ехали на мотоциклах, вернулись и доложили, что идет колонна противника. Я подумал, что, может быть, в ней всего два-три танка, а дальше пехота. Мы бы с ними расправились, как повар с картошкой… В головном дозоре колонны ехали мотоциклисты и три «Пантеры». Я по радио говорю: «Первый — мой. Козлов — второй твой. Тихонов — берешь третьего». Подпустив их метров на шестьсот, мы выстрелили по моей команде — танки загорелись. Пехота и артиллеристы уничтожили мотоциклистов. Немецкая колонна развернулась, и оказалось, что в ней шло не менее двадцати танков! Они отошли к деревне и стали лупить по нам. Я скомандовал отступление. Механику-водителю Петухову говорю: «Коля, давай вправо». Он развернулся, и тут снаряд попал мне в трансмиссию. Заклинило коробку передач и разбило бак. Танк загорелся. Я только крикнул: «Ребята, выпрыгиваем!» Слава богу, все выпрыгнули. Мне бы не надо было разворачиваться, а задним ходом уходить в лес, а потом уже там развернуться. А я стал разворачиваться на открытом месте и получил болванку. Остальные два моих танка отошли удачно. Артиллеристы и пехота закатили орудия в лес, и мы лесом вышли на шоссе и стали догонять бригаду. Насколько мне помнится, немцы дальше не пошли, а повернули в обратную сторону. Поскольку я был командиром взвода, я просто пересел в другой танк. Раз твое подразделение существует, значит, ты должен быть при нем! Тут уже командовать тобой никто не будет, тут будет командовать тобой твоя совесть. Так что, когда бригада вошла во Львов, я оставался командовать двумя оставшимися танками взвода. Уже в самом городе мой танк разбили, опять попав в двигатель. Он загорелся, но мы и тут успели выпрыгнуть. Когда я перебегал, вблизи разорвалась мина, осколками которой я был легко ранен. Ребята меня наскоро перевязали, и мы в пешем порядке стали продвигаться за танками. Подошли к дому, в котором размещалось гестапо. Я отрываю дверь — передо мной устланная широкой ковровой дорожкой парадная мраморная лестница, ведущая на второй этаж. Поднялся по ней наверх и остановился перед дубовой дверью с начищенными до блеска массивными бронзовыми ручками. Открыв ее, я оказался в комнате, которую принял за приемную шефа гестапо. В комнате стоял большой стол с массивными тумбами. Мне показалось подозрительным, что из левой тумбы выкинуты ящики, но в тот момент я не придал этому большого значения, а прошел к двери, ведущей в следующую комнату. Внезапно я почувствовал, что кто-то прячется в тумбе стола. Я повернулся и увидел, что над столом поднимается рука с «парабеллумом». Мгновенно я рванул на себя дверь и кубарем влетел в комнату. Немец выстрелил, но мимо. Я упал на пол, перевернулся. От таких резких движений открылась рана и снова потекла кровь. Я подобрался к двери и в щель между косяком и дверью вижу, как из тумбы вылезает немецкий офицер, обер-лейтенант. Я приставил свой «парабеллум» к щели и выстрелил. Попал ему в правое плечо. Он выронил пистолет. На выстрелы сбежались автоматчики и мои танкисты, которые осматривали первый этаж. Этот обер-лейтенант стоит с поднятыми руками, на левой руке у него были часы. Механик-водитель говорит: «Товарищ лейтенант, а у него часы хорошие». Снимает их, подает мне и говорит: «Возьмите. Будете вспоминать, как чудом живы остались». Часы были действительно замечательные, антимагнитные и водонепроницаемые. А этого офицера я приказал отвести и расстрелять. Если бы он не стрелял, я бы ему даровал жизнь, а так как он пытался меня убить, собаке — собачья смерть. Вообще надо сказать, что немцев мы люто ненавидели. Правда, когда мы вошли в Германию, нам было приказано относиться лояльно к мирному населению, и гражданских мы не трогали, а детишек так даже подкармливали. На каждом танке был ящик, а то и два трофейного шоколада. Вот этим шоколадом мы их баловали.  Трофеи! О них разговор особый. В наступлении тылы за нами не поспевали, и я скажу, что с батальонной кухни мы питались, только когда выходили на отдых! Но после боя обязательно что-нибудь находилось. Потому что немцы не то что мы — нищие. У них все было. У нас тоже было, но где-то там, в тылу, до нас мало что доходило. А так все трофейное: колбаса, сыр, консервы мясные. Правда, хлеб у них никуда не годился. Мало того что безвкусный, он еще и на хлеб-то не похож, все равно что опилки жевать. Вспоминаются еще получаемые по ленд-лизу полуторакилограммовые банки с салом шпик, копченым, порезанным на дольки длиной десять сантиметров, шириной один сантиметр, которые были проложены пергаментом. Достанешь два-три ломтика, положишь на кусочек хлеба, полкружки спирта махнул, закусил — и все в порядке! А пили так: в алюминиевую кружку наливали грамм сто чистого спирта, рядом ставили котелок с водой. Махнул (у меня сейчас даже слюнки потекли!), запил, и — никаких проблем. Только знаете, что я вам скажу, те сто грамм, что нам полагались, пили за нас тыловики, а мы пили трофейный спирт. Правда, я никогда не пил перед боем. Выпить — это значит сгореть! Ни в коем случае! После боя, когда ты остался цел, да! Когда мы дошли до Вислы и переправились на Сандомирский плацдарм, в батальоне оставалось пять танков. В первой роте было три танка и во второй роте — два танка. А мы, офицеры батальона, все на этих пяти танках. А куда мы денемся? Резерва-то у нас нет. Вот невольно и становишься внештатным членом экипажа. Этими силами, совместно с 6-м мехкорпусом, также понесшим потери, мы защищали десять километров фронта. Пехота жиденькой цепочкой располагалась впереди, а мы метров на двести — двести пятьдесят позади них. Оборона такая, что плюнь — развалится. Но немцы на нас не полезли. То ли выдохлись, то ли еще по какой причине. Один раз наш комбат повел командиров танков на рекогносцировку. Пришли к пехотинцам. Их ротный командир нас встретил, предоставил нам свой блиндаж. Мы выползли на нейтральную полосу, осмотрелись, распределили сектора обстрела и вернулись в окопы. Пора было возвращаться в расположение танков. Этот лейтенант нас предупредил: «Вы через вон ту опушку не ходите, она простреливается немцами». А наш комбат ему: «Да ладно, ничего, пройдем». Немцы сделали всего-навсего три выстрела — семь человек убито, из них четыре командира взвода и три командира танка. Вот так… Я был контужен. Спас меня мой «парабеллум». Это замечательное оружие, которое по всем параметрам превосходит наш «ТТ». Снаряд разорвался недалеко — где-то метрах в 3 — 4, и осколок, предназначавшийся мне, попал в пистолет, искорежив его. Меня отбросило взрывной волной, изо рта, ушей и носа текла кровь. Как потом мне рассказывали, меня тоже посчитали убитым, но, когда заворачивали в плащ-палатку, чтобы похоронить, я пошевелился. Повезло, а могли бы и закопать. У меня была сильнейшая контузия, но в медсанвзводе меня откачали, и дней через пятнадцать я стал слышать и нормально разговаривать. Пока стояли на Сандомирском плацдарме, я сжег T-IV. Получилось это так. Я отлично стрелял из орудия. Даже участвовал в соревнованиях на лучшего стрелка, которые Лелюшенко, командующий 4-й танковой армией, проводил во время перерыва между боями. На них я выиграл портсигар с папиросами «Прибой 175», изготовленный из латунной гильзы с надписью: «Отличнику стрельбы из танкового оружия». Так вот, как-то раз мне комбат говорит: «Видишь, вон немецкий танк идет». Я говорю: «Вижу». А немецкий танк полз по своим делам вдоль нашей обороны на расстоянии 1200 — 1300 метров. «Ты отлично стреляешь. Давай махни его». Я сел в танк, приложился к прицелу, навел, выстрелил. Снаряд прошел левее и выше башни танка. Я делаю второй выстрел — опять та же история. Немец уже развернулся и стал лбом — засек, что по нему стреляют, и ищет, где мы находимся. Тогда я вылезаю из танка — чего еще в этом танке, сгореть, что ли?! Я говорю: «Знаете что, там прицел или сбит, или умышленно выведен из строя». Комбат говорит: «Да, плохо дело. Ты пойди из другого танка стрельни». Подошел к другому танку, который стоял за сараем. Я говорю командиру: «Давай, выведи танк, я сейчас немца сожгу». — «А где, — говорит, — танк-то? Я не вижу». — «Ну пойдем, посмотришь». Вышли мы из-за сарая: «Видишь?» — «Ой, давай, — говорит, — я сам». — «Подожди — это моя добыча». Вывел он танк, я сел на место наводчика и первым же снарядом как дал в лоб, так он и загорелся! Прямо под погон башни попал! Выскочило из него только два человека, а двое, должно быть, там и остались. За это меня наградили орденом Красной Звезды и еще дали премию пятьсот рублей. Это была общая практика, когда за подбитый танк награждается именно командир. Ведь экипаж, по существу, обеспечивает его работу. Но вообще, после операции награждаются все уцелевшие. Поздней осенью 1944 года нас отвели в деревню Зимноводы, располагавшуюся примерно в двадцати километрах от передовой. Нас пополнили, и мы приступили к тренировкам и сколачиванию экипажей. Там был организован полигон со специально оборудованным тренировочным взводом — три танка, в пушки которых были вмонтированы винтовочные стволы. Прицеливание орудийное, а выстрел винтовочный. Мы отрабатывали стрельбу по движущейся цели, по неподвижной цели и даже в движении по движущейся цели на дистанциях 500 — 1000 метров. Но я скажу, что в бою я стрелял только с остановки. Ведь когда едешь, перед тобой только земля-небо, земля-небо мелькают, и попасть с ходу почти невозможно. Когда в январе 1945 года началась Висло-Одерская операция, мы примерно километров пятьдесят прошли во втором эшелоне. Потом наш батальон вывели в передовой отряд. Вечером 12 января, в сумерках мы подошли к деревне Пешхница, которая находилась на подступах к городу Кельце. Это был крупный населенный пункт с домами, стоявшими в два или три ряда. Командир бригады развернул наш батальон, и мы пошли в атаку. Перед этой операцией я перешел в 3-й батальон, и вот почему. В деревне Зимноводы мы жили у поляков на квартирах и ходили к польским девчатам. Молодые же были. Мне было всего-то двадцать лет. Еще ветер в голове гулял. Ходили к ним мы с Лешкой Кудиновым, командиром моей роты. Мы с ним были в одном танке. Я был командиром первого взвода и командовал четырьмя танками: танком командира роты и своими тремя. Пришли мы как-то раз, а там была цыганка с цыганятами. Она нам говорит: «Давайте я вам погадаю». Мы отказывались, а тут польки встряли: «Да чего вы боитесь, пусть погадает». Мы по-польски говорить не могли, но немного понимали, все же родственный язык. Лешка согласился. Взяла она левую руку, посмотрела, потом поглядела на него и говорит на ломаном русском языке: «Неудобно тебе говорить, но тебя убьют! Вот эта линия — она кончается». — «Ну, ладно, — он ей отвечает и меня толкает: — Давай, ему погадай». Она взяла мою руку. «Ты, — говорит, — жить будешь долго, но будешь мучиться. Будет тяжелое ранение». — «Ну, наверное, руку или ногу оторвет», — подумал я. Настроение сразу испортилось — говорить не хотелось, и танцы были не в радость. Пришли к себе, Лешка говорит: «Николай, давай изменим свою судьбу. Мне, ротному, перейти в другой батальон сложно, а тебе, взводному, запросто. Тем более в 3-м танковом батальоне недокомплект командиров взводов». Я говорю: «Хорошо». И вот в этой операции я участвовал в составе 3-го танкового батальона…  Мы вошли в деревню, и тут немцы стали лупить по нам. Один танк горит, второй танк горит, третий… Били с близкого расстояния. Мой танк подскочил к перекрестку. На фоне горящего на углу дома отчетливо выделялся силуэт «Тигра». Расстояние до него было не более ста двадцати метров. Я наводчику на голову нажал, он сполз на боеукладку, а я сам сел на его место. Посмотрел в прицел — не вижу, куда стрелять. Открыл затвор, навел орудие через ствол. Мой снаряд ударил ему в борт, и танк вспыхнул. Только я сел на свое место, снял перчатку, хотел переключить радиостанцию на внутреннее переговорное устройство, и в этот момент потерял сознание. Как потом я понял, немецкий танк, стоявший метрах в пятидесяти перед нами, засек вспышку моего выстрела и влепил болванку прямо в лоб нашей машины. Очнулся я на боеукладке, на днище — танк горит, дышать нечем. Увидел разбитую голову механика-водителя: болванка прошла через него и между моих ног, но, видимо, задела валенок, и левую ногу вывернуло в коленном суставе. Рядом с оторванной рукой лежит заряжающий. Наводчик тоже убит — в него пошли все осколки, он, по существу, защитил меня своим телом. Я на руках подтянулся к командирскому люку, но вылезти не смог — не сгибалась левая нога, выбитая в колене. Я застрял в люке, через который с гулом рвалось наружу пламя. Ноги и задница в танке уже горят. Глаза застилает кровавая пелена — я получил еще и ожог глаз. Увидел, что идут два человека, и говорю: «Ребята, помогите вылезти». — «Железнов?!» — «Я!» Подбегают ко мне, за руки схватили и вынесли меня, а валенки так и остались в танке. Только отбежали метров на пятнадцать — и танк взорвался. Одежда на мне горит. Кое-как забросали меня снегом. Да… Когда меня отвозили в медсанвзвод, Аня Сельцева, старший лейтенант, даже заплакала: «Коля, как же ты обгорел?» Ну, вот ты палец обожжешь — больно? А тут 35 процентов поверхности кожи сгорело! Как ты считаешь? Больно? У меня даже на лице кожа висела! Я ей говорю: «Ты мне воды дай попить, я пить хочу». Она мне не воды, а спирту налила и говорит: «Пей!» Я на нее выругался: «Что ж ты мне вместо воды спирт дала?» — «Тебе поможет. Притупит боль». Привезли в армейский госпиталь. Ногу загипсовали. Главное — я ничего не вижу, у меня все лицо распухло и отекло. Веки срослись, их потом разрезали… Не буду рассказывать. А то еще чего доброго заплачу… На днях мне принесли телеграмму ко Дню Победы от Ивана Сергеевича Любивеца, который со своим ординарцем спас мне жизнь. Я заплакал. Нервы не выдержали. А деревню эту мы так и не взяли, отступив в лес. На следующий день, перед тем как пойти в атаку, Лешка Кудинов вышел из танка и стоял на обочине курил. И вдруг он упал. Болванка, попав в бедро, оторвала ему ногу, и он умер от потери крови. Цыганка оказалась права… но лучше б об этом не знать. В госпитале я провалялся месяца два. Выписался я, когда армия вела бои за Берлин. Лицо стало розовым, все в рубцах, нога сгибалась плохо. Но мне сказали, что я ее в части разработаю. Действительно, нога разработалась. Осколок попал в мениск, и на первых порах не мешал мне. Я с ним прожил почти пятьдесят лет. А недавно мне поставили протез левого коленного сустава. Мениск износился. Осколок стал мешать ходить. Врачи посмотрели: «Как же ты ходил?» — «Нормально.» — «Как нормально? Осколок внутри сустава, и ты ходил нормально?!» — «Конечно, прихрамывал». Я поэтому и перешел на тыловую работу. Хотел перейти на штабную работу, но не получилось. Вот так закончилась война. А с немцами я в расчете. Я три танка потерял и у них три танка сжег плюс бронетранспортер. Ну, а людей сколько побил — это уже не считается. Примечания:1 Центральный научно-исследовательский институт №48 Наркомата танковой промышленности 8 Непосредственной поддержки пехоты. 9 Заряжающих. 10 Разряды были с первого по шестой в зависимости от квалификации рабочего, шестой разряд присваивался наиболее квалифицированным рабочим. 11 «Кубики» и «шпалы» — знаки различия в РККА до 1943 года. Три «кубика» — старший лейтенант, одна «шпала» — капитан, две — майор и т. д. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Прислать материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
